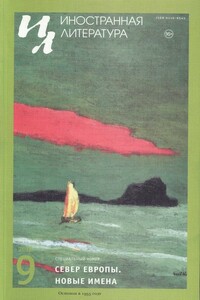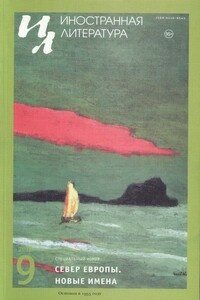В малом жанре | страница 26
— Нет, эта роза так и не хочет расти, — говорит мама.
Но анютины глазки — это наша забота. Да это и заботой не назовешь — отчего ж не посадить, раз уж мы тут. И она, конечно, была красавица, отцова Катарина, настоящая жемчужина, тут уж не поспоришь.
— Одно слово — жемчужина.
— А какая она теперь? — спросила я.
— Дурные мысли, — отрезала мама.
Но в голову такие мысли лезут, хочешь не хочешь.
Настоящая жемчужина, юная женщина девятнадцати с половиной лет. Большие надежды и кормежка с ладони, не иначе. Может, он прятал ее у себя под одеялом, и все прощал, прижимая к себе, и ее теплое, теплое, теплое дыхание щекотало подбородок, так что он волей-неволей расплывался в улыбке? Может, это было под запретом, как щенки в постели, а он не слушался, потому что не уяснил пока насчёт утешения и прочего, ведь на том фото он был еще такой нежный, такой тёплый, прямо как Элвис на экране.
И еще на том фото видно, что эта Катарина как будто моя настоящая мама, ведь у меня такие же стройные ноги. Ее, конечно, похоронили, когда меня ещё на свете не было, но ведь если приглядеться к фотографии, то заметно родство. А я так хочу стать красавицей.
Мама, присев на корточки, все ковыряет земную корку, чтобы посадить свои цветочки. Она орудует инструментом, взятым напрокат тут же на кладбище: с одного конца совок, а с другого — грабли. Бедра обтянуты юбкой — той самой, которая так хорошо скрывает избытки плоти.
Сначала мама, конечно, и не подозревала, что выпадет на ее долю. Просто работала санитаркой. Присматривала. Дело было в университетской больнице Умео, а туда свозили больных со всего края — и сейчас свозят, всех до единого. Катарину везли девяносто километров, от Оселе, а то и дальше, хотя уж должны были понять, что надежды нет. А может, все еще верили, что она просто припозднилась. Откуда им знать. Она ведь была совсем как беременная: живот большой и круглый — правда, месячные приходили, как ни в чем не бывало, а внутри ничто не шевелилось. Расти — росло, но мертвое, как прах.
А был это рак, вот что.
Она успела связать двое ползунков. Голубые не выпускала из рук, когда её привезли, вцепилась той еще хваткой, хотя руки исхудали и стали как лапки канарейки. Срок давно прошел, да и все сроки вышли — в чем только душа держалась. Глаза слезились от боли. Светло-серые, влажные девчачьи глазищи на остреньком лице. Пряди темных волос застревали в зубьях расчески. В легких клекотала жидкость. Юная Катарина все силилась объяснить, что дышать тяжко, потому как малой прижимает легкие, крупный такой и крепкий, весь в отца. Малой пожирал ее изнутри, месил кулаками, жал и давил, пока мякоть внутри не затвердела. Девчонка не смыкала глаз и не ела. Многие навещали, но мать не отходила от нее. И отцова мать тоже.