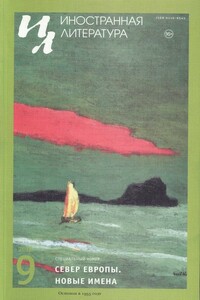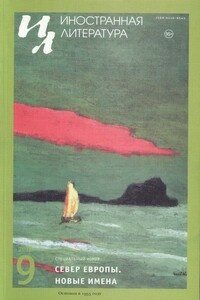В малом жанре | страница 11
Элеонора бросила свою белую курточку на сухую кочку посреди первой мшары. Мшары энти. Микке так говорил: те и энти, мшара-та и мшара-энта. Еловая мшара и мшара малая, старшая мшара и мокрая мшара и мшара-мара — попробуй уследи.
Когда Микке нарассказывался вдоволь, мы присели на корягу с южного края мшары. Сидели и смотрели, как Элеонора перебирается от одного золотого яйца к другому, а над ней огромным нимбом вьется мошка. Целая туча мошки! И свет по-стариковски щурился в прозрачных крылышках. Как-то так. Витал, порхал, как блестки на балетных пачках в папином Хельсинки. Как будто Элеонора — в свете рампы!
Все двигалось с естественной легкостью — пусть мох тяжелый и мокрый, пусть Элеонорины штаны, уже грязно-бурые, не спасти.
Волосы у нее были не русые и не рыжие, а среднего оттенка, и на затылке спутавшиеся — как всегда после сна.
Вообще-то мы с сестрой не особо похожи друг на друга — в моих волосах, например, рыжина совсем не так заметна. Ну и к тому же сестренка всегда была чуточку, скажем так, пухловата.
Мать говорила, что сестра моя еще станет красавицей. Хоть и голова у нее великовата, и глаза слишком близко посажены. Надо только научиться ходить со стопкой книжек на голове для осанки. И подбирать живот. И все такое. Что хорошая осанка — это спасение для девушки с заурядной внешностью. Потому что осанкой можно прямо-таки вскружить голову.
— Юхан, Юхан! — послышался с морошковой поляны сестренкин голос, а вскоре показалась и она сама, красная, запыхавшаяся, — мы с Микке как-то поленились ответить.
Элеонора, с горящими глазами:
— Я видела шельму, там! — выкрикнула она и махнула рукой куда-то туда, в мшары, в череду прогалин, в довременье. Но я ничего не увидел — ничего такого, что ей привиделось.
А Микке, ухмыляясь и доставая из кармана табак:
— Что это еще — шельма?
А Элеонора его за рукав, за джинсовый:
— Пойдем! — она же малявка.
Идем, идем, иди — все тянула за собой и нудила.
А мы:
— Да погоди…
Как-то так, да.
— Погоди ты, Элеонора, потом…
Элеонорины веснушчатые руки, все облепленные ненасытной мошкой, и нытье — все одно и то же, про какую-то шельму.
А Микке:
— Обожди, слышь? Обожди чуток.
Но она ждать не стала и побежала, надувшись, обратно, к морошке-подружке своей.
Микке припустил за ней. Поймать, намазать бурой мазью. Чтоб под майкой тоже. Круглое пузо и спину, и лопатки Элеонорины — мне все чудилось, будто с ними что-то не то с рождения, а что не то — и не объяснить. То ли размер, то ли форма, то ли как они шевелились.