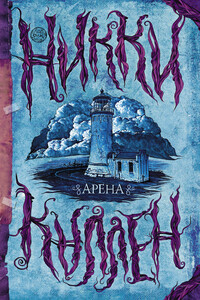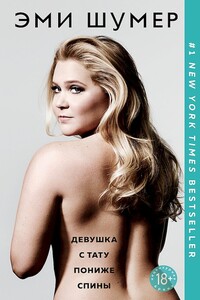Все, способные дышать дыхание | страница 50
среди руин – скажем, вон там, где какой-то посеревший от осколочной пыли, раздавленный, запрокинувшийся стебель орхидеи в тонком белом горшочке и вокруг него какая-то большая, тоже серая насквозь, страшная, но в прошлом тонкая и синяя тряпка, – Илья Артельман бы ни за что, ему, Илье Артельману, туда страшно даже смотреть; нет, даже еще проще: если бы эта чашечка, сосудик вообще лежал – но он аккуратно стоит на асфальте, это совсем-совсем не страшно, это как в музее, прошлого уже нет, а чашечка – вот она, и Илья Артельман, покряхтывая, поднимает ее, и вот он уже идет к запрокинутой орхидее и к бывшей синей тряпке, идет бочком, как вороватый котик, который как бы делает вид, что совсем не намерен подобраться к чужой мисочке, что у него своя мисочка есть, чашечка, сосудик, что он тут вообще мимо пробегает с полипренкой за спиной, ему надо отоварить талончики, у него и без чужой мисочки дел хватает – без этой вот второй, парной мисочки, которая лежит там, поглубже, там, среди серой пыли и вставших на дыбы разломанных бетонных плит, там, среди крупных осколков какого-то особого стекла, наверное, очень прочного, но перед лицом асона не выдержавшего, как никто не выдержал перед лицом асона, – Илья Артельман цап вторую, парную, мисочку, все еще глядя совсем в другую сторону, все еще как бы принадлежа своему пути к раздаточному пункту, а что в этот момент у него под пальцами совершенно случайно оказывается где-то за мисочкой – где рука Ильи Артельмана шарит ну совершенно машинально – что-то ритмичное и отчетливое, что-то ограненное и холодное, что-то тонкое и рифленое, что-то по длине – ну, скажем, как охват запястья, а по пробивающемуся сквозь пыль ледяному блеску… Так вот, оно само оказывается под пальцами у Ильи Артельмана, и Илья Артельман совершенно машинально сует это в задний карман джинсов, а мисочки почему-то засовывает себе под футболку, прижимает к круглому животу – и вдруг ужасно пугается, вдруг прямо бегом-бегом к раздаточному пункту, и уже в очереди, растянутой на два квартала, он, прикрывая мисочки всем телом от посторонних глаз, сует их в рюкзак, глубоко-глубоко под полипрен, и выдыхает, и вдыхает, и вот уже как бы нет никаких мисочек, а есть стоящая перед Ильей Артельманом старуха, держащая в вытянутой руке карточки на себя и двух котов, как работница на плакате – советский паспорт, и Илья Артельман размышляет об этом жесте, о том, что почему-то же в советском языке жестов было очень принято паспорт слегка вот так приподнять и в воздухе им помахать прежде, чем положить, а язык жестов, относясь к духовной культуре, не может ее не отражать и тем самым не может не влиять на понимание мира носителями языка: все, что у тебя есть, предъяви, все, что носишь в карманах, дай общественности как следует рассмотреть, и Илье Артельману, человеку глубоко антисоветскому, серьезно рефлексирующему, это дает повод задуматься о мисочках, он чувствует, что за этим происшествием с мисочками стоит что-то глубокое, что-то очень значимое, что следует осознать и развить, какая-то серьезная внутренняя концепция (как же без концепции); чашечка, мисочка, сосудик лопается у нежного Ильи Артельмана в носу, течет алая юшка.
Книги, похожие на Все, способные дышать дыхание