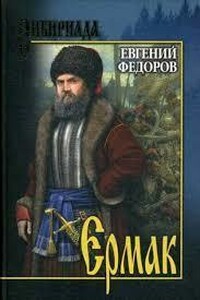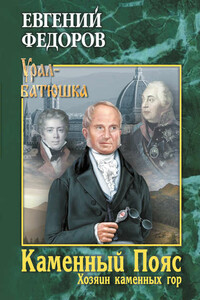Ровесники: сборник содружества писателей революции "Перевал". Сборник № 2 | страница 148
«Максим» меня заинтересовал. При первом случае поехал я в тихую деревушку «Пеньки».
Маленькая, похожая на баню избушка. У входа — кучка баб и девиц в широких шалях и овчинных мехах. Среди баб — грустный, похлопывающий рукавицами, мужик, у которого только что угнали лошадь. Печальные, в тихом сиянии надежды, глаза. Лубочно-скорбные лица. Горе (измена мужа, обманы жениха, безденежье), принесенные в грубых, дрожащих ладонях.
Лесенка вверх, скрипучая дверь, светелка. Те же девичьи и бабьи лица. Кульки, корзинка, свертки, — пироги, яйца, мануфактура.
— Уж ты, Максимушка, прими, не обессудь.
— Чем богаты, родной, тем и рады.
«Божий человек Максимушка» лежит на мягкой, покрытой стеганным одеялом, кровати. Голый. У Максима широкое, жесткое лицо, рыжевато-лисья шапка волос, окладистая, мягко упавшая на крепкую грудь борода. Не молод, но мускулист и — очевидно — силен.
Он, прищурясь, оглядывает баб, складывающих в углу свои приношения, улыбается, а иногда, морщась, буйно размахивает руками и голосит.
— Осеняется, знать, — пугливо вздыхает тихая, подпершая рукой берестяно-желтую щеку, старуха.
Две бабы, следя за Максимом, проталкивают вперед семнадцатилетнюю, испуганную, подрагивающую девушку.
— А ты, дура, не бойся.
— Да ведь он вон как, — стыдливо отвертывается девушка от оголенного «ведуна», — го-ола-ай…
— Коли голай, стало быть, совесть чиста, стало быть, отец Максим греховности в себе не чует. Иди, иди, не робей. Дура.
Девушка, мягко подходя к постели «божьего человека», порывисто падает на колени, закрывая лицо. Максим остро взглядывает на тонкую девичью шею, гладит склоненную голову.
— О чем просишь?
— Просватана я, значит, а он…
Девушка всхлипывает. «Пророк» утешает.
— Говорю тебе перед богом: вернется. Молись.
И — улыбаясь — оглядывает баб.
— Сам я, касатки, согрешил намедни.
— Что ты, что ты, Максимушка, — удивляются бабы, — рази грех пристанет к тебе? Как это можно!
— Можно, ласточки, можно. Молился я тут в монастыре одном, женскам. А монашки, — приподымается Максим, — яд-дрен-ные. Груди — во!
Бабы, хихикая в ладонь, смущаются, но слушают. А «ведун», прищурясь, играет пышной, упавшей на крепкую грудь, бородой.
— Ну, я и помыслил: хорошо бы поласкаться с им. Уж больно увесисты.
Он повертывается к образу — перед образом теплится зеленая лампадка — и широко, троекратно, осеняет себя крестным знамением.
— А царица небесная, поди, осерчала…
Колдовские цветы — черны цветы отравы — распускаются, неизменно, под голубым богородичным платом. В нашей же волости, — в другой деревне, зимой пронесся шумный, как пурга, слух: рассказывали о… воскресении из мертвых одной крестьянки. Слух разрастался все настойчивее и убедительнее. К воскресшей потянулись богомольцы: несли, как и Максиму, приношения, служили молебны. Встретясь с о. Вонифатием, я — помнится — спросил его: