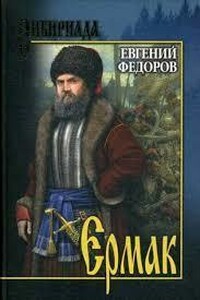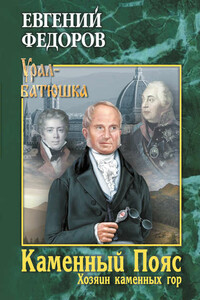Ровесники: сборник содружества писателей революции "Перевал". Сборник № 2 | страница 141
— Как хочешь, Маруся, а замуж необходимо. Надо пожалеть меня и братьев. Не упускай жениха.
Мать, вытирая выцветшие глаза, говорит о богатом женихе, а девушка — у нее остро вздрагивают худенькие плечи, и шумит на плечах смуглый, тяжелый водопад волос — тихо, осенней грустянкой, уходит из комнаты.
Тихой грустянкой поехала Маруся к венцу. Молчаливой, тающей Снегуркой, еще более прекрасной в женственности своей, приехала на святках к матери.
Не узнать Марусю: богатое, боярски-отороченное платье, колючий, сияющий браслет на руке, голубые — из ноябрьской лазури — перстни вокруг черного золота глаз.
Говорит томно, держится непривычно-натянуто. Холодом веет от Маруси. А ведь ночами, спрятав голову в мокрой подушке, вероятно, плачет, вздрагивая холодными, худенькими плечами?
А когда Маруся с мужем (муж ее — крупнейший, уже наживший огромные деньги, уездный торговец) гостили у матери, приехал тихий друг белых отроческих дней Маруси, сын лучшего друга ее отца. Он пропадал по фронтам (на его черкесской папахе все еще сияла алая звезда), потом скитался по новым городам и весям, а явился все тем же веселым, милым забулдыгой: красивое, засмуглевшее лицо, веселый серебряный смех, мягкие голубые глаза, и на верхней губе — колючий шелковый пушок.
Вспыхнула бледная, женственная Маруся. Опустила глаза.
— Это мой муж, — подвела гостя к плотному мужчине, с розоватой плешью в жидких волосах.
Муж привстал, пожал руку.
— Наше почтенье-с, — и безразлично продолжал разговор с тещей, — …Жмут налогами, жмут дороговизной, какое нынче житье-с!..
Потом встал, помолился, сел в уголок, развернув старенький, смятый альбом.
А Маруся и гость, одевшись, вышли на скрипучее, шаткое крыльцо — он, стройный, в черкесской папахе и зеленом полушубке, а она в смуглом бобровом воротнике, в тяжелой, как ее волосы, шали — грустная и тихая тающая Снегурка. На землю — на глубокие январские снега — опускалась вещая птица святочных сумерок; за облаками, словно колдовской, наговорный круг на святочных снегах, холодно проступала цыганская луна. Маруся жаловалась на жизнь — гость растерянно слушал ее рассказы, — глубже закутывалась шалью, глубоко вздохнула и, опустив лицо, поднялась: скрипели шаги, шел муж.
— Собирайся, Маня, сейчас едем.
Через полчаса гость смотрел, как застоявшаяся лошадь, развевая гриву, метнулась в прозрачную, голубую темноту, как в темноте устало качнулся белый платок (слеза застынет на нем жемчужным горицветом), слушал мягко заскользивший по снегам печальный бубенчик, вспоминая, вероятно, любимого когда-то Блока: