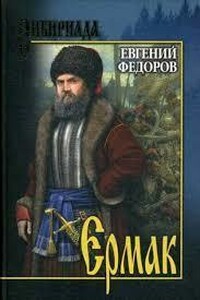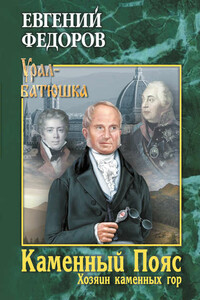Ровесники: сборник содружества писателей революции "Перевал". Сборник № 2 | страница 125
Как-то председатель бедноты навестить пришел. Сел у постели на табуретку, у Григорья про здоровье спросил.
— Плохо, брат… Не умереть бы…
— Что ж, когда-нибудь и умирать надо! Мой покойный отец перед смертью проговорился: «Лежу, говорит, сынок, а про себя думаю: и умрешь — не беда! Сынки закажут попу десятка два панафид да сорокоуст, поминки справят… Глядишь, от самого-то страшного места в аду и отмолят. Вот я и трушу!» Да, брат, хорошо бывало умирать было… А теперича кто уж в это крепко-то верит? Может, — и закажут, а все сумленье берет: ну, как толку от этого не будет? Потому — веры такой не стало, а без веры нашему брату-мужику страшно. Рассудить, как и что, он не может и веру потерял. Бог-е знает, что там будет!
— Ничего не будет! Подохнешь, и все тут…
— Хорошо, кабы так. А выйдет дело по-иному, ты уж коммунизм-от свой здесь оставь, он тебе там, чай, не понадобится.
— Тебе для домашнего обиходу откажу… Небось, и без меня он не иссякнет!
— Вишь, какой ты еще зубастый… Одначе, прощай покудова, надо корму натаскать.
Все хуже и хуже Григорию. Ворочается на постели, кряхтит, стонет. А мысли нет-нет да и вернутся к смерти. Страшно мужику… Пожить хочется, еще совсем не стар, а хворь одолевает. Может, и вправду бог его наказывает? Не все же люди врут, случается — и правду сказывают.
Ослабел совсем, бредить начал. В бреду нивесть что в голову лезет. Не может Григорий больными мозгами все толком понять. А тут Орина над ухом вязжит.
Начал Григорий сдаваться.
— Послушай ты моего глупого бабьего разума! — жужжит Орина. — Отбрось гордыню-то, может, господь бог и помилует… Григорий!.. Успокой мое сердце, надень хоть крест!
Поглядел на нее мужик. Отощала баба, сморщилась, — видно, не легко и ей. Жалко стало жену. Отвернулся и чуть слышно бросил:
— Делай, как знаешь…
Сорокой вспорхнула с табуретки Орина. Откуда только прыть взялась? Заметалась по избе, забегала. Крест уж давно припасла, на гайтан привесила, а понадобился — не найдешь: как на грех запропастился. Вспомнила: в мочешник под веретена завернутым в тряпочку засунула.
Крест был медный, уж давно у спекулянта за фунт муки выменяла, еще тогда на что-то надеялась.
Приподняла мужу голову и, словно аркан, накинула на шею гайтан, а крест под рубашку сунула. Плотно лег он на горячую, потную грудь. Григорий вздрогнул, поежился и отвернулся к стене.
Орина не унывала. Не давая мужу опомниться, завела речь про исповедь. Григорий молчал. Ни противиться, ни согласиться он не мог, весь ослабевший, безвольный.