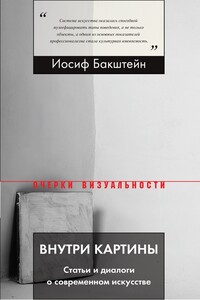Рядовой авиации | страница 21
Но воспользоваться этим не пришлось. Льдина все более раскалывалась, уменьшалась. Преодолевая неимоверные трудности, ледокол «Ермак», а затем и ледокол «Таймыр» достигли льдины, и 19 февраля 1938 года удалось эвакуировать людей и имущество станции. Папанинцы теперь находились на борту ледоколов, которые держали путь в Мурманск. Здесь их ожидали родные и близкие, представители прессы.
Обо всем этом страна узнала из скупых радиограмм, которые удавалось передать на Большую землю. А как бы узнать поподробнее, поточнее? Об этом, конечно, можно узнать из тех дневников, фотоснимков, записей, которые вели сами папанинцы. Все то, что предназначалось для печати, папанинцы по пути следования подготовили. Теперь осталось из Мурманска доставить этот ценный материал в Москву, ТАСС, газетам «Правда», «Известия». Но кого послать в полет в такую явно нелетную погоду, в нарушение всех правил и инструкций? Да и можно ли на сто процентов гарантировать успех?..
Для выполнения этого задания выбор пал на Евгения Борисенко. Пожалуй, ни одно поручение из тех, что ему приходилось выполнять раньше, не оказывало на него такого морального воздействия, как это. Доверие окрыляет, прибавляет сил! И Борисенко принялся за подготовку к полету.
В помощь ему дали хорошо подготовленного штурмана-инженера Гриценко Николая Антоновича. Гриценко был известен в ГВФ как теоретик и большой практик. Он отлично знал авиационную навигацию, изобрел и усовершенствовал многие навигационные приборы, был автором нескольких печатных трудов.
Учитывая плохую погоду на маршруте, экипаж должен был прибыть в Мурманск за четыре дня до вероятного прибытия папанинцев. Полет решено проводить на самолете Р-5 конструкции Н. Н. Поликарпова.
Расскажу об этом самолете более подробно. Это двухместный полутароплан деревянной конструкции, с открытыми — одна за другой — кабинами, с матерчатой обшивкой крыльев и оперения и фанерной обшивкой фюзеляжа, с мотором водяного охлаждения М-17 мощностью 500 лошадиных сил. Связь между членами экипажа была самая примитивная: резиновый шланг, один конец которого оканчивался раструбом, а второй крепился к шлемофону другого члена экипажа. Связь двусторонняя и не совсем надежная: за шумом мотора не всегда можно было разобрать слова, приходилось кричать, повторять.
Полет осложнялся еще и тем, что кабины были открытые. Вихревые потоки задували в кабину. Без очков летать нельзя, — глаза слезятся от воздушного потока, а очки часто запотевают и лишают четкой видимости. При незначительном обледенении переднее ветровое стекло кабины покрывается пленкой льда, и летчик может смотреть только по сторонам. Чтобы смотреть вперед, нужно высунуть голову из кабины, а встречной струей воздуха обжигает лицо, особенно в морозную погоду. Чтобы не обморозить лицо, надевали маски из беличьего меха, но они мешали в работе, и мало кто ими пользовался. Однако мы, летчики, гордились самолетом Р-5. Он был значительно лучше предыдущего разведчика Р-1. Максимальная скорость Р-5 — 230 километров в час, крейсерская — 180–200, потолок — 6400 метров. Лучшие в мире характеристики по тому времени для данного типа самолетов.