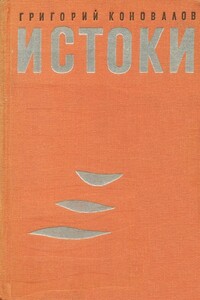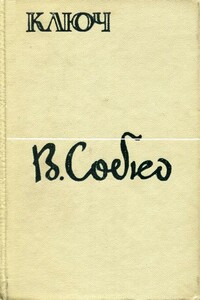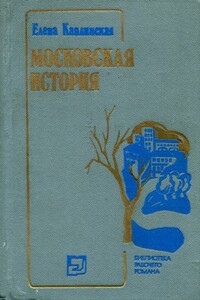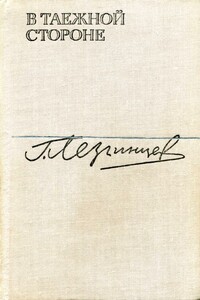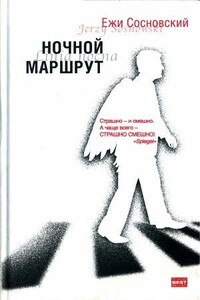Год со Штроблом | страница 26
Два часа спустя сел в спальный вагон поезда.
9
В кухне стоял синий диван. Когда Фанни и Шютц хотели совсем уединиться, они брали бобриковую подушку с полосатого раскладного дивана в гостиной и устраивались на нем поудобнее.
— Пойдем! — сказал Шютц Фанни, взяв ее за руку; и вот их головы лежат рядом на бобриковой подушке.
Негромко наигрывает радио. Оно высоко над ними, на углу холодильника, оттуда доносятся звуки ненавязчивой нежной мелодии.
Шютц устал, но не чересчур. Вдыхает запах волос Фанни. Распущенные, они мягкие на ощупь и пахнут, если иметь немного воображения, сиренью. Сирень он купил утром в цветочном киоске вокзального вестибюля, три ветки с белыми, пушистыми зонтиками — он едва их заметил, так торопился, потому что поезд пришел с опозданием, а он хотел еще успеть застать Фанни с детьми дома.
Застать не застал, зато у него была сирень! Белая сирень. В январе. Для Фанни. Он представил, какими круглыми от удивления станут ее глаза. Именно такими они и были вечером, когда, увидев его с цветами, она воскликнула:
— Ты с ума сошел!
И ему ничего другого и не надо. Он всегда привозил Фанни гостинцы, когда случалось быть в отъезде; а однажды — они тогда еще не поженились — вот эту самую черную кружевную ночную рубашку, в которой она походила на девочку-подростка, шутки ради изображавшую из себя роковую женщину. В годовщину свадьбы всегда дарил розы, этого у него не отнимешь. Но белая сирень в январе — невиданное дело, и Шютц, стукнув себя кулаком в грудь, горделиво сказал:
— Это от меня!
И позволил Фанни и детям нежничать и целовать себя, как оно и положено человеку, принесшему в дом такую редкость, как белая сирень в январе.
— Тебе удобно? — спросил Шютц.
Фанни кивнула, уткнувшись лицом в его шею, и он, осторожно проведя пальцами по ее губам, понял, что она улыбается.
— Если тебе удобно, — сказал Шютц, — моя рука может преспокойно себе отсохнуть! — но удержал ее силой, когда она хотела поднять голову: — Лежи так…
«Он рад, что дома, — думала Фанни. — Я чувствую, хоть он этого и не говорит. Втроем в одной комнате, маленькой комнате общежития-барака, на стройке — грязь и песок. Я бы не смогла. Я много чего могу. Могу написать три тысячи строк за смену, и это в помещении, где летом в жаркие дни температура доходит до тридцати пяти — сорока градусов, а «тастоматы»[6] жужжат, как воинственные летние пчелы. Сидя рядом с пятью другими, я выстукиваю, что в Ирландии застрелили пятнадцатилетнего мальчика, а в Белене, под Лейпцигом, торжественно отметили юбилей ветерана труда; в Аргентине пять тысяч человек пострадало от землетрясения; наш рыболовный флот достиг рекордного улова; королеву Великобритании Елизавету II поздравляют с днем рождения — все в один день, восемь часов пятнадцать минут подряд мировые события пробиваются на перфоленте, чтобы потом, отлитыми в свинец, напечатанными на бумаге, еще влажными и пахнущими типографской краской, попасть в руки читателей. А думаю я при этом, что мне еще нужно попасть с Йенсом в школьную подготовительную группу и купить Мане туфли. Я могу стирать, варить и печь, и отвечать на вопросы детей, а после идти на смену». И вдруг она ощутила, как в ней закипает злость, чего она вовсе не хотела, потому что это глупая, бессмысленная злость, но Фанни удалось преодолеть ее, внутренне улыбнуться даже — «какая муха тебя укусила?» — и вернуться к первоначальной мысли о том, что она не смогла, не выдержала бы в бараке с двумя другими в одной комнате, и тут она подумала: «Может быть, я все-таки выдержала бы, если бы захотела…»