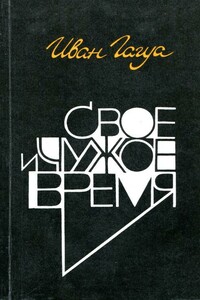Треугольник | страница 12
В маленьком селе Чучу все было так спокойно, что, казалось, был слышен сам воздух. И вдруг вдали взорвался крик и стал постепенно усиливаться, приближаясь.
Жители Чучу на секунду окаменели, каждый на своем месте, выжидая, словно желая еще раз проверить себя и удостовериться в надвигающейся беде, надо было что-то решать, хотя что они уже могли сделать? Потом заработала некая более сильная пружина, которая разом подняла их на ноги, подтолкнула — и они бросились врассыпную. Кто в дом забрался и заперся изнутри, кто на кровле притаился, кто скользнул в погреб, кто-то пустился бежать по тропинке в горы. А у одного страх оказался настолько велик, что обернулся радостью, и несчастный побежал в ликованье навстречу выстрелам и голосам. Все сразу смешалось, и жизнь вдруг уместилась в двух чувствах — страхе и тревоге. Основной заботой были красивые девушки, потому что знали — идет Юнус, и другой цели у него нет. Все в смятении прятали-укрывали своих дочерей, сестер, жен.
Режущий слух, вызывающий жуткую тоску вопль повис над селом и, усиливаясь-усиливаясь-усиливаясь, достиг кульминации, ворвался в село вместе с теми, кто исторгал этот вопль. Шесть всадников то двигались одной сплошной стеной, то смыкались в тесное плотное кольцо, потом снова растягивались, снова смыкались или вдруг от накала чувств начинали кружиться на месте и вокруг друг друга. Сейчас они двигались, вытянувшись длинной цепочкой, впереди черноволосый, смуглый, крепко сбитый Юнус — в одном ухе поблескивает серьга, рот окаймляют усы.
Бабишад был похож на йога, тощий-претощий, кожа медного цвета. Он на ходу метнул горящий факел в стог сена и сам, как ребенок, обрадовался поднявшемуся пламени… На Мустафе был арабский наряд, бог знает, зачем он напялил его на себя и неизвестно где раздобыл, но это было красиво и, главное, соответствовало его вкусу… Аль-Белуджи был полуобнажен, на голове тюрбан… У Аламы были красные волосы, рассыпавшиеся по плечам. При виде огня он совсем зашелся от восторга, обезумел прямо, привстал на лошади, откинулся и, широко распахнув пасть, хохотал безудержно… Хара-Хира нацепил на голову нечто вроде византийской короны, не исключено, что это была часть тиары, впрочем, это не имело такого уж особого значения, просто корона блестела, была тяжелая и нравилась самому Хара-Хире. Потому что Хара-Хира был необъятных размеров и любил, чтобы на голове было что-то тяжелое: когда на нем не было его «шапки», ему казалось, нет и самой головы. Частенько товарищи, чтобы подшутить над ним, прятали «шапку», и Хара-Хира выходил из себя, метался в ярости по сторонам и не мог успокоиться, пока не находил свой замечательный, неповторимый головной убор.