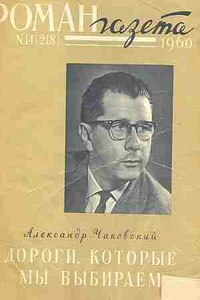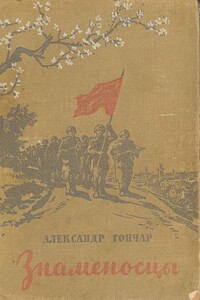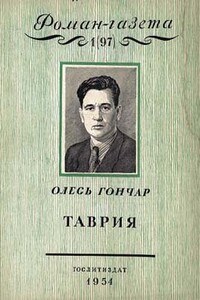Твоя заря | страница 44
Остановилось, не движется наше степное время. Дремлет дорога, укрытая небом. Воздух недвижим и — как стекло. Солнце, точно привязанное веревкой на месте, никак не хочет двигаться до той отметки, на которой тень твоя так уменьшится, что уже сможешь ее переступить или хотя бы перепрыгнуть, изрядно поднатужась. Так грустно тебе одному, объятому этой звенящей степной тишиной, где лишь твоя детская сиротливость перекликается через пригорки и ржи с Кириковой сиротливостью.
Откуда-то будто песня печальная до тебя доносится, чья-то мать-птица человеческим голосом жалуется: «Мои детки-малолетки сидят в гнезде, словно в клетке…» И вот ты вдруг вырос, становишься ростом с утреннюю тень, и тебя уже куда-то провожают, тужат по тебе, а ты утешаешь, чтобы не плакали, потому что — дожди вымоют твою головушку, а высушат буйны ветры, а расчешут ее частые терны…
И снова один, один. Встретится тебе товарищем здесь разве только столбик межевой, нивы чьи-то половинящий, залезешь на него, совсем как в той колядке, сложенной для самых маленьких:
Стоишь на столбике среди хлебов, взываешь куда-то, аж за третью рожь:
— Кири-и-ик!
А в ответ:
— И-и-и!
Лишь эхо голос подаст.
Еще большая тоска охватывает тебя.
Ни единой души на всю степь. Дорога, как и раньше, безлюдна. Давно уже промчал на своем рысаке Кишка-младший, надутый богач, который разводит у себя на хуторе породистых лошадей, промчал на бегунках до самой школы и обратно — это он ежедневно разминает коня, готовит к ярмарке или к какой-нибудь выставке. Полупудовые подковы у того рысака, чтобы выше груди выбрасывал копыта, как можно больше загребал воздуха. Так и летит на тебя, разбрызгивая пену: губы у коня расщеплены удилами, у молодого хозяина крепко сжаты. Промчался — и нет, лишь осадок на душе от того, как недобро Кишка черкнул тебя глазом, словно ты в чем-то пред ним виноват, словно на его земле пасешь, хоть дорога — она же ничья… Исчезли дрожки в хлебах, и снова никого, снова безмолвие, тишина. Кузнечик где-то прострекочет. Перепел в хлебах вавакнул и смолк. В небе ни облачка, и будто ангелы поют — все что-то звенит, звенит. Может, степь звенит, нагреваясь?
В такие часы с Кириком, верным товарищем, единственно и связывает тебя тоненькая невидимая золотая струна, — ее натянула между вами Романова пчелка, только что прогудевшая в воздухе! Потому что в эту пору, когда цветут ржи, все наши нивы медом пахнут! Пчелам только летай да летай, каждой есть работа. Тем, кто пасет на веревке, конечно, тесно в степи среди бессчетных меж, а им, Романовым труженицам, — раздолье. Вот опять одна из них гудит над колосьями басовой струной, прямо около тебя идет на посадку: нашла, что искала! Завороженно следишь, как пчела гнездится там, внизу, в затененном цветке, может, еще и с росинкой на дне. Чувствуешь, как ей приятно, когда она купается средь лепестков, погружаясь глубже и глубже… Пусть это будет даже чертополох, пчела и здесь окунается с головой, она прямо стонет от наслаждения и счастья. И так все лето, не зная усталости, трудится самозабвенно — из ничего мед берет!