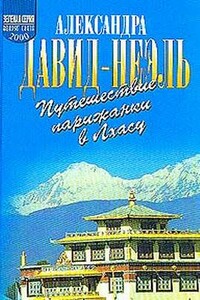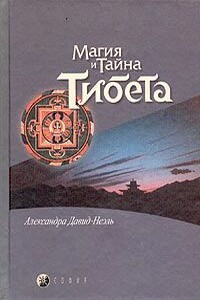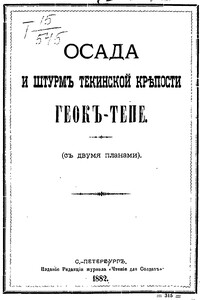Под грозовыми тучами. На Диком Западе огромного Китая | страница 16
Я встречалась в Париже с несколькими представителями советского правительства. Большинство из них были любезными и приветливыми, но в их радушии неизменно сквозила странная сдержанность, казалось, проистекавшая не от их личных чувств, а от «чего-то», что, как они знали, наблюдает за ними. В посольстве царила необычная атмосфера, в высшей степени пронизанная незримыми, скрытыми флюидами. Я полагаю, что для ученых-психологов оно могло бы стать столь же идеальной лабораторией, как и некоторые старинные аббатства, где меж древних камней таится беспорядочное скопление мыслей многих поколений фанатичных монахов-мистиков или хитроумных политиков. Высвобожденные из своего укрытия, эти идеи окружают посетителя, подобно стае внезапно выведенных из оцепенения летучих мышей. Однако мысли, обитавшие на улице Гренель, были совершенно новыми. В остальном посольство ничем не отличалось от других официальных помещений: пыльные комнаты ожидания, мрачные офисы и строгий, роскошно обставленный кабинет главного начальника. Посол, ныне покойный г-н Довгалевский17, казалось, заинтересовался моими проектами, по крайней мере, просветительскими программами для сибирских аборигенов, с которыми я желала встретиться. Мой давний друг Сильвен Леви18, выдающийся преподаватель санскрита из * В ту пору его офис находился в Париже на улице Леверье. Затем его перевели на улицу Гренель, в здание посольства. ** Старая столица Монголии Урга переименована сейчас в Улан-Батор. пожеланиях Цат.). Коллеж де Франс, рекомендовал меня одному грузину, сотруднику посольства, занимавшемуся подготовкой его короткой поездки в Россию на съезд востоковедов. Он также рекомендовал меня своему коллеге профессору Ольденбургу19, ученому-востоковеду, который был тогда генеральным секретарем или президентом ленинградского отделения Академии наук, и я рассказала этому человеку о своих путевых планах, когда он был в Париже. Я намеревалась прибегнуть к помощи какого- нибудь русского студента, мужчины или женщины, знакомых с местными сибирскими диалектами, а также интересующихся темами моих исследований. По словам ученого, нашлось бы немало молодых людей, которые были бы рады меня сопровождать. В то время как события, казалось, развивались в соответствии с моими желаниями, профессор Ольденбург, якобы допустивший какую-то оплошность в классификации архивных материалов, впал в немилость. Вышеупомянутого грузина, который, как говорили, был близким другом Сталина, направили послом в Прагу, если я не ошибаюсь, и наше короткое знакомство на этом закончилось. Как я прочитала в одной газете в Ханькоу (Китай) в октябре 1937 года, этого человека, очевидно, расстреляли. Другого чиновника, с которым я общалась в посольстве в ходе предпринятых мной шагов, видимо, тоже казнили. Я не ручаюсь за точность этих сведений; в написании иностранных собственных имен, фигурирующих в сводках прессы, часто встречаются ошибки, вводящие людей в заблуждение. Минуло около года, а беседы в посольстве так и не увенчались успехом. В конце концов, меня официально известили о том, что мне запрещено останавливаться в Сибири на пути в Монголию и Китай. Таким образом, моя мечта о дружеском сотрудничестве с советской интеллигенцией не осуществилась. В царское время русская бюрократия пользовалась исключительно дурной славой из-за своей медлительности и беспорядка, но революции вряд ли удалось изменить привычки чиновников. Наверное, какой-нибудь безвестный писарь, сидящий в глухом уголке своей конторы, в силу непонимания, недоразумения или просто вообразив что-нибудь несусветное своим недалеким умом, изложил нелестное мнение обо мне в служебной записке, и меня на веки вечные, до конца советской эпохи, занесли в черные списки. В каком же свете я представала в этой бумаге? Как гнусная капиталистка? Увы! Трижды увы! Данный эпитет отнюдь ко мне не подходит! Или же меня сочли слишком отъявленной индивидуалисткой, для того, чтобы оценить все прелести принудительного коллективизма? Неизвестно, и, будучи любознательной по природе, я тем не менее без особого огорчения смирилась с тем, что мне никогда не удастся это узнать. Прошло семь лет после моей неудачной попытки духовного освоения Сибири, и вот наконец мне предстояло увидеть Байкал, о котором я столько мечтала, но мне не суждено было задержаться на его берегах. В течение всего дня, в то время как за окном тянулись скучные, невыразительные картины, мой ум, поглощенный давними и свежими воспоминаниями, пытался постичь суть истинного современного положения в России через двадцать лет после великого потрясения, повлекшего за собой образование СССР, а также терялся в догадках относительно будущего. Уже стемнело, но я не обращала на это внимания и очнулась от забытья, лишь когда поезд сделал остановку у польской границы. Последовали те же формальности: предъявление паспорта и таможенной декларации. Служащие, производившие проверку, смотрели со странным видом, отчасти с жалостью, на пассажиров, собиравшихся ехать дальше, как на безумцев, направлявшихся к реке Ахерон20, где их ждала печальная участь. Впрочем, вполне возможно, необычное выражение на их лицах свидетельствовало лишь об усталости и борьбе со сном в сей поздний час. Когда мы отправились дальше, в вагонах оставалось совсем мало пассажиров, и все полицейские, сопровождавшие поезд, очевидно, сошли на приграничной станции. Почти пустой поезд, двигавшийся в полной темноте среди заснеженных равнин, обрел свой первоначальный призрачный облик: над моей поездкой снова сгущались грозовые тучи. Мы подъехали к советской границе. Я слышала, что это место можно узнать по транспаранту с отныне традиционной фразой: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и снова задумалась. Поезд замедлял ход. Испытывая волнение, я прильнула лбом к стеклу, чтобы в первый раз взглянуть на Страну Советов. Освещенные вагоны бросали вокруг тусклые блики. Я увидела солдата в длинной шинели, с винтовкой с примкнутым штыком в руке, неподвижно застывшего на снегу.