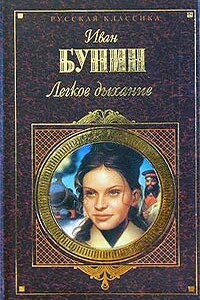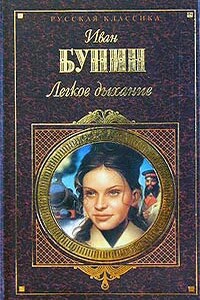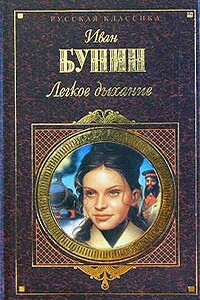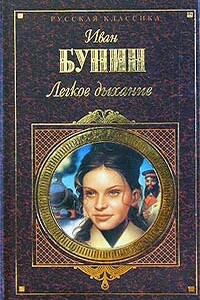Белая лошадь | страница 11
Уверенность эта была, впрочем, и теперь. И так оно и случилось. На седьмой день больной уже ел бульон, пил чай и просто, спокойно разговаривал.
Был он желт, слаб, голова и борода у него сильно поседели, — не сдались только одни густые строгие брови, — но это очень шло к нему. Лицо его стало чище, красивее. Марья Яковлевна с радостью рассказывала, как он бредил, какую чепуху он говорил иногда, про какую-то белую лошадь, и землемер улыбался с ласковой снисходительностью к самому себе.
И с такой же улыбкой, с грустным и приятным сознанием своей слабости, вышел он в первый раз после болезни в зал. Казалось, что уже много лет не видал он знакомых комнат.
Глаза у него стали темнее, больше и смотрели на все удивленно, внимательно. На ногах были мягкие туфли, под пиджаком и рубашкой ласково грел тело лифчик из лисьей шкурки. Никуда не нужно спешить, ни о чем не нужно заботиться, — давно не бывало у него таких отрадных дней! Но он уже твердо знал: это его последняя осень.
В кабинете он снял с полки Библию и развернул книгу Иова. На столе лежали какие-то гвозди, старые планы, рассыпанные патроны папирос… Он приладился с краю и зачитался.
Потом положил локти на книгу и загляделся на кривую лесовку, росшую на пустыре за окном.
Да, вот был человек непорочный, справедливый, богобоязненный. Был он богат, здоров, счастлив. Но истребил сатана, с изволения Господня, все его имущество, истребил всех чад его и поразил его проказою от подошвы по самое темя. И взял человек черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел на пепел вне селения. И открыл уста свои и страстно проклял день свой. «Погибни, — сказал он, — день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек! Дыхание мое ослабело; дни мои прошли; думы мои — достояние сердца моего — разбиты; ночью ноют во мне кости мои: ибо летам моим приходит конец, и отхожу я в путь невозвратный. Скажу Богу: за что ты со мною борешься? За что гонишься за мною, как лев, и нападаешь на меня, и чудным являешься во сне? Но не ответит мне Бог!»
Было в простоте этих слов, в образе безумно-вдохновенного прокаженного, сидящего в пустыне за селением, скребущего черепком гнойные раны свои и проклинающего жизнь от колыбели до гроба, что-то столь древнее и в то же время столь близкое во все времена каждому человеческому сердцу, что прежде землемер был не в силах читать этих слов. Но теперь он прочел их спокойно и медленно, чувствуя себя почти равным Иову в безнадежности. Потом остановился на словах Сафара: