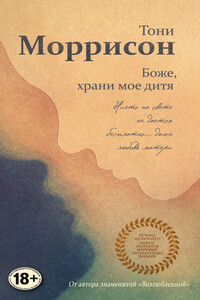Хроники | страница 52
Иногда он сидел там днем у пианино один и играл что-то похожее на Айвори Джо Хантера, а на краю пианино лежал большой недоеденный сэндвич. Я забрел туда как-то раз днем – просто послушать, – и сказал, что играю на улице народную музыку.
– Мы все играем народную музыку, – ответил он. Монк не покидал своей динамической вселенной, даже когда плямкал просто так. Даже тогда он вызывал к жизни магические тени.
Мне очень нравился современный джаз – нравилось слушать его в клубах… Но я за ним не следил, и он меня не увлекал. В нем не было никаких обычных слов с конкретными значениями, а мне нравилось слышать все просто и ясно, на королевском английском, поэтому народные песни обращались ко мне самым непосредственным образом. На королевском английском пел Тони Беннетт, и одна его пластинка в квартире имелась – называлась она «Лучшие песни Тони Беннетта»[80], и в нее входили «Посреди острова», «От тряпья к богатству», а также песня Хэнка Уильямса «Холод, холод сердца»[81].
Впервые я услышал Хэнка, когда он пел в «Большой старой опере»[82] – радиопрограмме, транслировавшейся из Нэшвилла в субботу вечером. Роя Экаффа, ведущего программы, диктор называл «королем кантри-музыки». Кого-нибудь обычно представляли «следующим губернатором Теннесси», программа рекламировала собачий корм, и в ней продавались пенсионные страховки. Хэнк пел «Двигай дальше»[83] – песню о жизни в собачьей конуре, мне это показалось крайне уморительным. Кроме того, он пел спиричуэлы, вроде «Когда Господь придет и соберет алмазы» и «Ты ходишь ли и говоришь за Бога?»[84]. Звук его голоса пробил меня, словно электрический хлыст, и мне удалось раздобыть несколько его пластинок на 78 оборотов: «Малышка, мы и в самом деле влюблены», «Хонки-тонкин» и «Потерянная трасса»[85]. Я крутил их беспрерывно.
Его называли «певцом деревенщины», но я не понимал, что это такое. Гомер и Джетро в моем представлении были деревенщиной гораздо больше. А к Хэнку репья не липли. В нем не было ничего клоунского. Даже в юности я себя полностью с ним идентифицировал. Не нужно было переживать все, что пережил Хэнк, чтобы понимать, о чем он поет. Я никогда не видел плачущую малиновку, но мог ее вообразить, и мне становилось грустно. Когда он пел: «По всему городу весть разнеслась», я соображал, что это за весть, хоть и не знал точно. При первой же возможности я тоже готов был идти на танцы, чтобы сносить там башмаки. Потом я узнал, что Хэнк умер на заднем сиденье машины под Новый год, но я держал пальцы накрест и надеялся, что это неправда. Это была правда. Словно рухнуло огромное дерево. Когда я услышал о смерти Хэнка, меня будто по голове шарахнули. Молчание космоса никогда не звучало так громко. Хотя интуитивно я знал, что голос его никогда не исчезнет из виду, никогда не затихнет – голос, похожий на прекрасный рог.