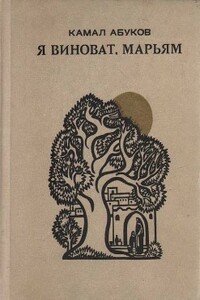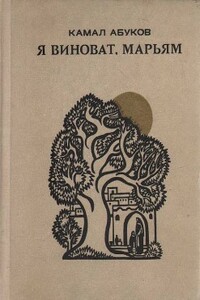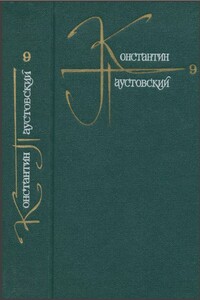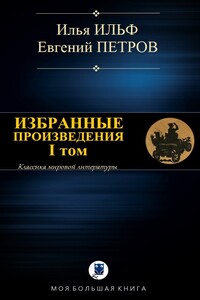Песочные часы | страница 6
И снова воспоминания о минувшей войне наводят Эгле на размышления о времени и человеческой судьбе, о смысле жизни. Слушая чистую и прозрачную, как трель жаворонка над весенней рощей, музыку Баха, Эгле как бы размышляет вслух: «Тогда в лесу, где остались мои больные, я нашел несколько латунных гильз. И тогда же мне пришло в голову, что я до сих пор как-то не задумывался над тем, что пули существуют, чтобы расстреливать людей. Лишь недавно, вновь перебирая все это в памяти, я сообразил, что всегда был только врачом, лекарем, а не слишком ли это мало? Врач не целебный родник, из которого страждущий напьется, и дело с концом. Родник — не человек, он лишен души. Врач — человек, и он обязан вникнуть во все, что переживает его пациент, должен пытаться постичь самое жизнь».
Так, путем довольно сложных ассоциаций и размышлений, развивается основная тема повести о времени и человеческой судьбе. Идею нельзя убить насилием, человек — активный строитель жизни, своей жизни и чужой, каждый смертный отвечает перед бессмертной историей.
Круг замыкается — смерть одного человека не означает конец человеческой жизни вообще, ибо эстафета мысли, творческих деяний, величия духа, благородства и честности вечна. В этом смысле развитие основного мотива повести как бы напоминает движение песка в стеклянных песочных часах сколько раз чья-то рука перевернет их, столько раз вновь пересыплется желтый песок из верхней колбочки в нижнюю. Сколько бы раз Эгле не возвращался к размышлению о смысле жизни, столько же раз он вынужден признать: «…Жизнь не останавливается…»
Такое нарочитое возвращение к одной и той же мысли, попытка многократно, как бы с разных сторон, рассмотреть один и тот же мучительный вопрос о жизни и смерти обуславливается и необычностью ситуации, выбранной писателем, — ведь речь идет о человеке, о враче, который должен умереть и который ни на минуту не сомневается в трагическом исходе своей болезни. Подобная ситуация психологически оправдывает этот своеобразный художественный прием многократного возвращения к одной и той же мысли, которая развивается как бы по спирали, при каждом своем возвращении захватывая все больший и больший круг острых жизненных проблем. И действительно, перед лицом смерти человек вправе судить себя и других по самым высоким законам этики и морали. Судный день «настанет для каждого, — думает Эгле, слушая реквием. — Не бог будет судить нас, бога не существует, но у Человека существует совесть, и Судный день совести будет у каждого из нас. Великий суд, о котором поведал композитор. И на этом суде, как поется в реквиеме, „тайное станет явным, и воздастся каждому по делам его“, потому что свершится в присутствии неподкупного свидетеля, имя которому — Память. Каждый однажды предстанет перед судом своей совести. Она будет судить за преступления, не предусмотренные кодексом законов. Нет закона, по которому ты обязан в трудный час поделиться куском хлеба; и лишь ты один знаешь, мог или не мог протянуть руку утопающему, ведь посреди озера не было никого, кроме вас двоих. Существуют преступления, не оговоренные законами. И у того, кто считает, что ему такой суд не грозит, возможно, отсутствует совесть».