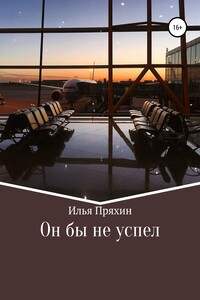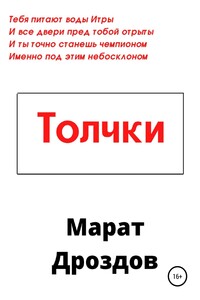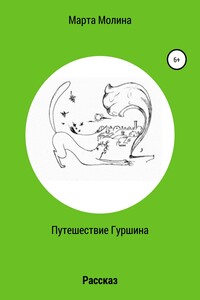Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия | страница 40
С другой стороны, шопенгауэровский квиетизм воли представляет собой сомнительное лекарство. Любое мало-мальски мощное внешнее событие не оставит от него камня на камне. Думается, что клин следует выбивать клином. Иначе говоря, привычная иллюзия всякий раз разрушается достаточно мощным эмоциональным усилием, в основе которого находится отчаяние. Об этом хорошо сказал Кьеркегор: «Никто не свободен от отчаяния. Однако тот, кто сознаёт отчаяние, гораздо ближе к исцелению чем те, кто его не осознают. Последние как бы разлагаются заживо. Только дошедший до отчаяния ужас пробуждает в человеке его высшие силы. Отчаяние – единственное средство душевного спасения для человека». [15, 98]
Нас не вполне устраивает избранный Шопенгауэром термин «воля». Это понятие вызывает устойчивые ассоциации, которые встают помехой при чтении его книг. Ведь от чего предлагает отталкиваться Шопенгауэр при рассмотрении воли? Почему именно воля? Он предлагает в качестве отправного пункта использовать тело человека. Воля, по его мнению, это то, что каждому из нас известно непосредственно. Но для нас именно здесь лежит камень преткновения: мы не видим в себе никакой воли! Для нас это тот самый лингвистический знак, за которым ничего не стоит. Даже в тех ситуациях, про которые можно сказать, что мы проявили некую силу воли, мы воспринимаем это на самом деле не как результат действия воли, а как проявление случайной совокупности внешних и внутренних факторов, приведших к такому результату. Например, человек вдруг засуетился и предпринял некие действия – в этом самопринуждении мы не видим никакой его воли, хоть убейте! Просто так случилось. В нашем восприятии всё просто имеет место, – случается, если угодно. А никакой воли мы не ощущаем.
Незадолго до смерти Шопенгауэр, в разговоре с Фрауэнштедтом, сказал: «Вы полагаете, что человек в каждый момент времени отдает себе отчёт в том, что он делает? Я сам порой удивляюсь, как я мог всё это сделать. Ведь в обычной жизни ты вовсе не такой, каким становишься в возвышенные моменты созидания». Философ пояснил, что от нас совершенно не зависит ни то, какие мы в повседневности, – ни то, какие мы в наивысшие моменты творчества. А прощаясь с другим своим учеником, Гвиннером, он сказал, что «для него было бы благом достичь абсолютного ничто, но, к сожалению, смерть не открывает подобных перспектив. Впрочем, будь что будет. Его интеллектуальная совесть чиста…» [10] Через три дня Шопенгауэра не стало. Думается, что это предсмертное высказывание Шопенгауэра является ключом к пониманию сути его философии. К сожалению, великий пессимист не разглядел небытия, хотя и явно жаждал его. Его «воля» не дала ему возможности пробиться к идее небытия. Поэтому неудивительно, что он искал способы уничтожения воли. Насколько они убедительны, мы пока не беремся судить. Но если поразмыслить над этими предсмертными словами, то что можно было бы сказать? В нашем восприятии смерть – это, безусловно, полное ничто, абсолютное ничто. Поэтому Шопенгауэру не о чем было беспокоиться. Он ведь знал и писал о том, что сознание человека умирает вместе с его телом. Если даже допустить, что некая непостижимая для нас основа, – благодаря которой стал возможен кратковременный феномен, носящий имя Артура Шопенгауэра, – остается после исчезновения этого феномена, то феномену, пока он не прекратился, это должно быть глубоко безразлично (если он верит, что его сознанию в смерти придет конец). А после того, как он прекратится, вопрос о безразличии тем более не встанет: не будет больше того, кому было бы что-то безразлично или важно. Но ведь основа-то остается в виде той же природы, которая после нашей смерти будет так же порождать новых индивидуумов. Однако к нам, умершим, всё это не будет иметь ни малейшего отношения – мы развеемся как дым по ветру. Тут, конечно, можно сказать, что Шопенгауэр, будучи философом, философски же заботился «обо всей твари»: следует не явления устранять, а вырвать с корнем то, что обеспечивает возникновение этих явлений. То есть, волю.