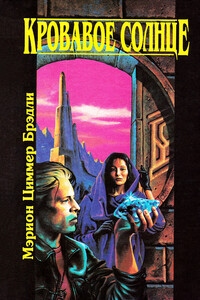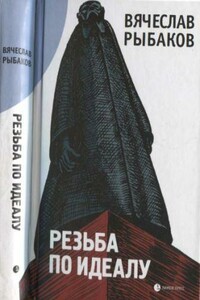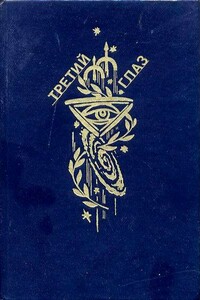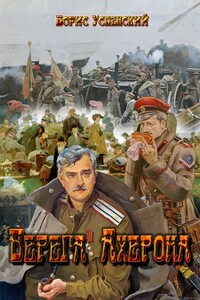Гравилет «Цесаревич» | страница 9
С младых ногтей нас учили, что роль личности в истории не слишком-то велика: все решает поступательное движение общественно-исторического процесса, смена формаций и так далее. Естественно, по свойственному человеку вообще, а молодости особенно, нонконформизму нам хотелось прямо противоположного. Мы доказывали, что личность решает в истории если не все, то очень многое, и потому так зачитывались этими самыми еслибдакабистскими романами, где лихой американский подрядчик по собственному вкусу и разумению перекраивает Британию шестого века, а простой русский инженер — сперва Францию, а затем и всю Европу столетия девятнадцатого.
В «Давних потерях» оба эти взгляда смешались с дивной неразделимостью. Добрые вожди смогли уберечь страну ото всех мерзостей, через которые прошла реальная наша история; а история в этом случае автоматически привела к торжеству тех самых поступательных общественно-исторических процессов, которые плавно внесли отчизну в преддверие утопии. И, значит, все установки были правильны… Эк! Каюсь, я долго не мог разобраться в странном этом конгломерате, пока не ощутил в рыбаковском рассказе ироническую интонацию, которая расставила все по своим местам. Точнее, интонацию грустно-ироническую — ту, с какой мы прощаемся с детской мечтой податься в пираты, например. Так ведь и весь рассказ — не только тоска о потерянном социалистическом рае, но и прощание с детской мечтою об этаком Эдеме.
Но, пожалуй, наибольший интерес с точки зрения альтернативно-исторического эксперимента представляет собой «Гравилет „Цесаревич“». И не только потому, что здесь детально разработана модель Российской империи, какою могла бы она сегодня стать, пойди история другим путем, подпиши Александр II конституцию Лорис-Меликова, не возникни мрачное подполье «Народной воли»… Разработана не только детально, но и обаятельно, хотя и ощущается за ее картинами привкус жгучей тоски нашего неустроенного сегодня по миру на земле и в человецех благоволению.
Однако главное, разумеется, не в этом. Оно заключается в сути того нравственного идеала, который за этой утопией стоит. И это вновь возвращает нас к разговору об этике, а заодно — и о внутренних, душевных ориентирах, заложенных еще тогда, в шестидесятых.
Прочитав «Гравилет…», Борис Стругацкий заметил Рыбакову: «Вы, Слава, истинный ефремовец… Вы верите в существование властительной этики, и потому относитесь к человечеству, словно девственник к женщине — теоретически он знает, что конкретная женщина может оказаться и обманщицей, и развратницей, и кем угодно еще, но Женщина как таковая для него суть объект поклонения. Вот и вы в человечество верите, хоть и знаете: отдельно взятый человек вполне может оказаться предателем, преступником, садистом… И я, — грустно закончил он, — по идее должен был бы поддерживать в вас эту иллюзию — но очень уж врать не хочется». Что ж, с точки зрения Стругацкого, может, это и ложь. И возможно, многие с таким утверждением согласятся. Но нам с Рыбаковым — и в этом отношении мы едины — представляется, что подобным образом поддерживается в людях то, что только и достойно уважения, что позволяет в наше смутное время удержаться от недопустимых крайних проявлений; не скажу даже «нравственный идеал» — скорее, «нравственная норма».