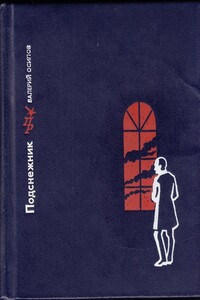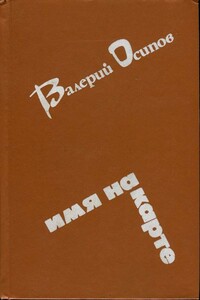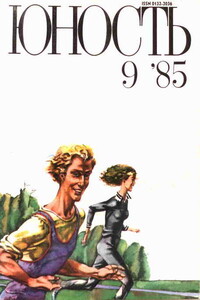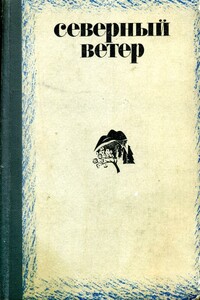Избранное | страница 61
«Москва, НИИ-240, профессору Губину. Иван Михайлович, огромное спасибо за цветы и вообще… за все. Первый раз чуть ли не за полгода взяла в руки карандаш и бумагу и пишу Вам. На душе сейчас очень сложно и не сказать, чтобы ясно и хорошо. Правда, что-то изменилось, умолк какой-то грохот, прекратилось вулканическое извержение, разрывавшее все эти месяцы мои и так никудышные нервы в клочья… Иногда, в редкие минуты затишья, я начинала отчетливо слышать орган, его безысходный и скорбный готический стон, и тот концерт Вивальди, который, помните, мы слушали когда-то в консерватории. Лежа с закрытыми глазами на своей опостылевшей до последних чертей кровати, я видела какие-то средневековые замки, рыцарские турниры и женщин в широких бальных платьях с кринолинами, Прекрасных Дам, которым поклоняются и которых обожествляют покрытые шрамами загорелые крестоносцы… Как это здорово все-таки было придумано — Культ Дамы Сердца! Каких вершин удовлетворенности, очевидно, достигала женщина, служившая объектом подобного культа, хотя, конечно, само слово «культ» в наше время как-то не звучит. Очень уж однообразный смысл вкладываем мы в это в общем-то довольно безобидное слово (Иван Михайлович, простите мне всю эту галиматью, но я так изголодалась по всяким ничтожным бабьим мелочам, что просто иногда теряю контроль над собой). А еще я помню, как меня выгружали из вертолета в Норильске и как стояли в морозном тумане около санитарной машины какие-то летчики в меховых унтах, а на краю аэродрома вспыхивал и гас рубиновый глаз маяка. И еще помню, как мы поднимались с Семеновым на Асаханский перевал и как сорвалась в пропасть лошадь, а потом ушли вниз олени, потому что в горах на камнях ягеля почти нету, он весь внизу, в долинах. И как привязал меня к себе веревкой Семенов, будто заправский альпинист, и как я все время падала, а он все время возвращался и молча поднимал меня, и мы шли дальше, в гору. Он ни разу меня ни о чем не спросил, ни разу не поинтересовался, почему я не улетела на самолете вместе со всеми. Он просто понимал: мне так нужно, — и помогал, как мог… Иван Михайлович, я сознательно не пишу сейчас о главном, не могу. Столько сразу горьких чувств нахлынуло, как только вспомнился этот ужасный переход через Асаханский водораздел, что у меня даже глаза заболели от подступивших слез, но плакать я все равно не буду, не хочу. Если уж не плакала там, у костра, в палатке, когда вокруг на тысячи километров стояла оцепеневшая от морозов первобытная тайга, то стоит ли плакать здесь, среди белых простыней и подушек, когда за тобой ухаживают почти как за маленьким, только что родившимся ребенком? Иногда я искренне удивляюсь: как я могла выдержать это? Может быть, это и есть та самая знаменитая бабья живучесть, которая позволяет женщинам выдерживать более сильные физические лишения, чем мужчинам? У меня сейчас вообще очень много новых вопросов к самой себе. И в первую очередь это почему-то чисто «дамские», специфические вопросы. Ну как я, например, могла столько времени не вылезать из сапог и ватных штанов? Как могла обходиться без хорошего белья, без косметики? Почему я так надолго забыла обо всем этом? Во мне умерла женщина или я еще ни разу по-настоящему себя женщиной не чувствовала? Одним словом, сто тысяч «почему», ответов на которые я пока не нахожу, но найти надеюсь… И еще эти новые ощущения материнства, и волнения за маленького человека, пока еще такого беспомощного и такого незащищенного. Все это наполняет и голову и сердце самыми неопределенными, самыми противоречивыми и порой мучительными настроениями… Иван Михайлович, не могли бы Вы хоть на один день достать стенограмму конференции в академии? Так хочется что-нибудь знать о работе, о методе, об институте, о товарищах… Я Вас очень прошу, Иван Михайлович. Это будет для меня самое лучшее лекарство. Целую Вас.