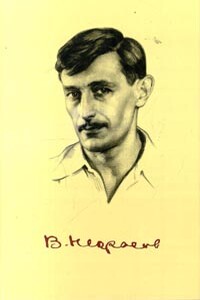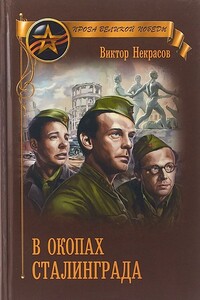Взгляд и нечто | страница 30
Ровно в шесть тридцать (в программке сказано, что только здесь испанцы бывают точны) открываются ворота и под звуки «pasodobles» появляются участники зрелища, равного которому нет в мире…
Ох, не загнул ли ты, брат?
Нет, не загнул.
Мои дамы на корриду не пошли — не любят убийства, не любят крови. Я пошел, хотя к убийству и крови отношусь, вероятно, так же, как и они. Потом, после корриды, они утверждали, что вид у меня был разочарованный. Нет, это не совсем точно. Я был не разочарован, я был огорчен. Огорчен самим собой. Огорчен тем, что, как выяснилось, мне совсем не жалко быка.
Поединок, в конечном счете, безусловно, не равный. Бык и больше, и сильнее, и злее, и удар его рога смертелен, но он, да простят мне столь категорическое утверждение, просто глуп. И гибнет от собственной глупости, а не только потому, что его загоняли. Из шести быков, участвовавших в корриде, ни один в поединке с матадором не бросался на него, только на мулету, кроваво-красную мулету, развевающуюся то справа, то слева от его морды. Матадора он будто и не видел.
А матадор все время на краю гибели. Это то самое лезвие ножа, которому уподобляют все отчаянно смелое. Вот главное, вот существо того, что делает корриду зрелищем, ни с чем не сравнимым.
Второе, и тоже главное, — изящество, с которым это хождение по лезвию осуществляется. Во всех деталях отработанный, отшлифованный, доведенный до совершенства танец. Свои пируэты, антраша, адажио, фуэте, за которыми знатоки следят и не прощают ошибок, как не прощают танцовщику, будь он самим Нижинским. Только там это — количество пируэтов, высота прыжка, а здесь — количество сантиметров от рога быка и степень величавого спокойствия, с которым тореро, после очередной вероники, отходит, не оборачиваясь, от разъяренного быка. И то и то — искусство. Искусство движения, искусство поз, но рядом с быком — еще и преодоление страха.
В-третьих — это веками освященная традиция, классика, не допускающая отклонений. Ни в чем. Наряд, косичка колета, распорядок, условность, минуты. В корриде немыслим модерн, поиски нового, кажется, только легендарному Манолетто разрешено было ввести новую «lancio», новую позицию, пируэт, носящий сейчас его имя: «мано-летинас». А знаменитейшего из знаменитых, ныне здравствующего Эль-Кордобеса, говорят, знатоки осуждают. Он в своем бесстрашии, в немыслимом риске отодвигает танец на второй план, и это считается безвкусным, не прощается, хотя публика ревет от восторга.