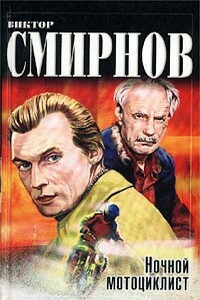Жду и надеюсь | страница 13
— Закрой дверь! — кричит Шурка.— Здесь особая часть!
Васько ухмыляется, открыв щербатый рот, надвигает на глаза линялую, собачьего меха, шапку. Лицо у Васька детское, кирпатое, а глаза, как у всех партизанских подлетков, взрослые, мудрые, на все наглядевшиеся.
— Ты это…— шепчет Васько, оглядываясь.— Ты, раз портишь, дай какой-нибудь газетки, потоньше… На закрутку. Ой, хлопцы нуждаются.
— Возьми! — Шурка отрывает полосу «Гамбургер Фремденблатт» — газетки с эсэсовской эмблемой, двумя зигзагообразными закорючками.
На этой полосе различные спортивные новости, фотографии загорелых юношей в длинных широких трусах и футболках, членов спортбунда, жонглирующих мячами. Они играют…
Васько, благодарно покашляв в кулак, растворяется в темноте, занимает свой пост.
— Не курил бы ты, Васько! — бросает вслед Шурка, руководимый безотчетным и бессмысленным накануне боя педагогическим инстинктом.
— А сало можно есть? — спрашивает невидимый Васько.
Шурка начинает собирать бумаги. Он должен заниматься своим делом. Обо всем, что встречается в документах и имеет значение для партизан, доложить, пересказать.
До четырех часов утра еще долго ждать, очень долго.
В своей наглухо закрытой, прочно срубленной полесской баньке Шурка не слышит короткой ночной суеты близ хаты, где разместился Парфеник со штабом. Простучало колесами в середине села, мелькнуло огоньками в приоткрытой двери, прозвенело, проржало, проойкало человечьими жалобными голосами, проскрипело ржавыми петлями, протупотало сапогами по крыльцу, и наконец твердый, не подстраивающийся к тишине, чрезвычайно самостоятельный голос Сычужного произнес:
— Левада, встать у двери, не пускать никого Никого! А вы, товарищи, тихо марш на квартиру разведки — и ни слова! Все.
Чиркающий длинной копотью по потолку язычок плошки высветил изнутри беленую хату с плотно завешенными рядном окнами. На дощатой лавке — человек, вытянувшийся так, как только мертвые вытягиваются, кажущийся невероятно длинным, с белым лицом. И лежит он, как только мертвые лежат, навзничь, запрокинув голову, нисколько не боясь жесткой скамьи.
— Микола, Микола… То ты мои очи повинен был накрыть, а не я твои.
Батя, Парфеник Дмитро Петрович, неуклюже сгибая ревматические суставы, опустился на колени возле лавки, потрогал щеку убитого — еще не выстыло тело, не вобрало в себя осенний холод, но на щеке со свежими порезами от бритья острым финским ножом уже проступила мгновенная мертвенная синева щетины.