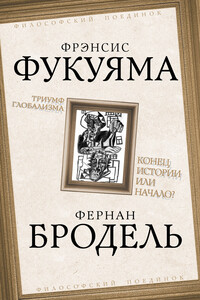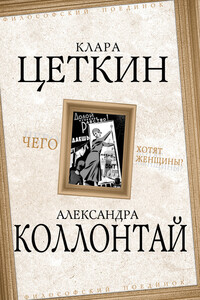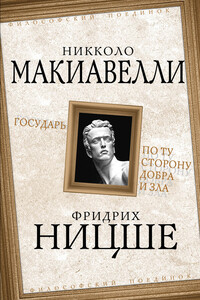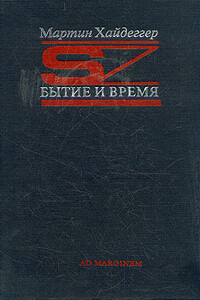Ницше и пустота | страница 66
Из надставления «истинного мира» как самосущего, непреходящего над ложным миром изменчивости и кажимости, возникает «еще третья и последняя форма» нигилизма – а именно тогда, когда человек распознает, что этот «истинный мир» («трансцендентный» и потусторонний) вытесан только из «психологических потребностей». Ницше называет здесь «психологические потребности» походя; объясняя введение единства и цельности, он их уже называл. Ценность должна быть придана сущему в целом для того, чтобы оказалась обеспечена самоценность человека; какой-то потусторонний мир должен существовать, чтобы можно было вынести посюсторонний. Когда, однако, человеку вычисляют, что он в своем расчете на потусторонний «истинный мир» считается только с самим собой и своими «желаниями», поднимая голое пожелание до статуса самосущего, то изобретенный таким способом «истинный мир» – верховная ценность – начинает шататься.
Дело уже не ограничивается только ощущением неценности и бесцельности становления, только ощущением недействительности становления. Нигилизм становится теперь ярко выраженным неверием в такие вещи, как воздвигнутый «над» чувственностью и становлением (над «физическим»), т. е. метафизический мир. Этим неверием в метафизику воспрещен всякий род ускользания в какой-то загробный или запредельный мир. Тем самым нигилизм вступает в новую стадию. Дело уже не кончается просто ощущением неценности этого мира становления и ощущением его недействительности. Мир становления оказывается, наоборот, коль скоро пал сверхчувственный истинный мир, «единственной реальностью», т. е. собственно «истинным» миром в его неповторимости.
Так возникает своеобразное промежуточное состояние: 1. Мир становления, т. е. здесь и теперь проводимая жизнь с ее переменчивыми очертаниями, не может отрицаться как