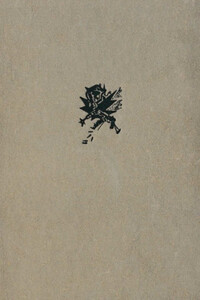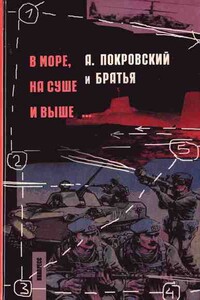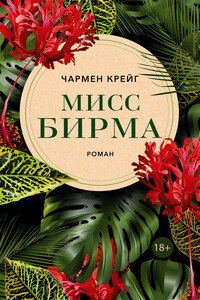Три ялтинских зимы | страница 14
Удивительные люди старые русские интеллигенты! Конечно, и среди них встречались разные, но для лучших такое понятие, как порядочность, было едва ли не определяющим и в собственном поведении и в отношении к другим людям. Непорядочно отказать в помощи попавшему в беду человеку, и высшая степень непорядочности — пройти мимо горя ребенка. В таком случае отступали все другие соображения. Но даже на этом фоне Трофимов выделялся.
Покровительствовать, поддерживать, помогать было, казалось, душевной потребностью для него. Попала в тюрьму приятельница. Трофимовы тут же стали собирать передачу. Мысль о том, что это им самим может грозить опасностью, даже не возникала, а если и появлялась, то ее тут же отбросили: как можно не помочь человеку!
Месяца через два ее выпустили, но возвращаться на свою квартиру нельзя, и Трофимовы оставили ее у себя. Какие могут быть разговоры! Не жить же рядом с доносчицей, у которой что ни день в доме полно немецких офицеров…
А немного спустя у Трофимовых появилось еще два новых жильца — осиротевшие дети. И был ведь, кроме того, приемный сын — Степан.
В моем рассказе невольно перемешалось то, что рассказал Александр Иванович, с тем, что стало известно гораздо позже, после моих бесед со многими людьми. Некоторые даже прислали потом свои воспоминания.
«…Жилось нам чрезвычайно трудно. Есть было нечего. Дров не было. Бомбежки, обстрелы, облавы не давали покоя. Нервы постоянно у всех натянуты. Во время бомбежек мы уходили из квартиры в подъезд и там пережидали, пока стихнет пальба. Для приготовления пищи собирали в парке сухие ветки, щепки. Улиток смешивали с отрубями и пекли из этого теста пирожки. Брали с Лизой ручную тележку и отправлялись в Дерекой или Ай-Василь менять вещи на продукты.
Но Михаил Васильевич Трофимов оставался оптимистом. Он был твердо убежден, что рано или поздно Красная Армия прогонит фашистов. Как и до войны, он занимался своей библиотекой: склеивал порванные страницы, переплетал старые книги, ходил по городу и подбирал в разрушенных бомбежками домах валявшиеся в развалинах „бездомные и осиротевшие“, как он говорил, книги. В период оккупации они с Лизой не работали. Их сын Степан работал шофером. Кстати, о нем тоже шел разговор…»[1]
Но на этом мы прервем цитату. Какой разговор шел о Степане, станет ясно чуть позже. А покамест вернемся снова к Александру Ивановичу Анушкину. Заинтересовавшись книжным знаком, печаткой, он напал на след интереснейшего человека, провел целое расследование, накопил папку материалов, написал и опубликовал очерк, и вот теперь: