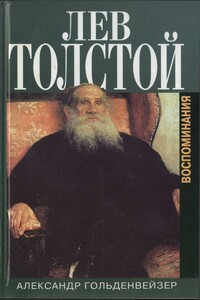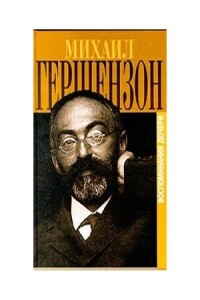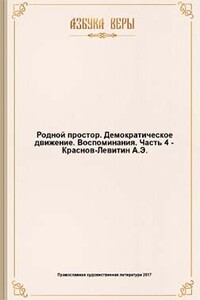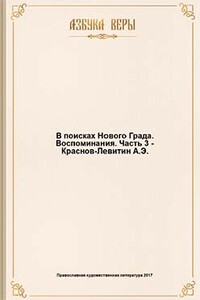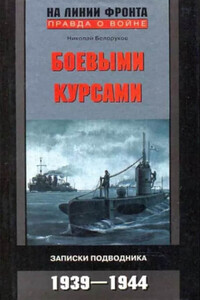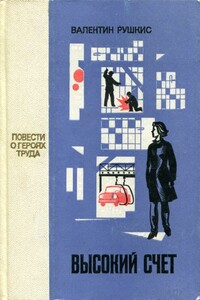Рук Твоих жар (1941–1956) | страница 24
Он избрал человека слабого, запятнанного многими грехами.
И чудеса на каждом шагу, — каждый день, спасение от неминуемой гибели, от бед, от ненависти людей — всяких, от чекистов до реакционеров-мракобесов.
Когда я выехал из Питера, шел мокрый мартовский снег, и все мои скитания отождествляются со снегом. Под снегом простоял жизнь, стою и сейчас. В странствиях до конца.
Глава вторая
В пути
И вот я еду в переполненном вагоне по направлению к Ладоге. Люди сидят, тесно прижавшись друг к другу. Вши бродят сотнями. На них никто не обращает внимания.
Поезд еле двигается, останавливается через каждые полчаса. Только на другой день, в два часа дня, прибыли к Борисовой Гриве, — это на берегу Ладоги. В обыкновенное время путь до Ладоги — два, два с половиной часа. Выходим усталые, помятые. Нас быстро сажают в автобусы. Через Ладожское озеро.
Лед крепкий, как железобетон. Ни в ту, ни в другую сторону берегов не видно. Ледяные просторы. Через два часа мы проехали «дорогу жизни», как называют питерцы этот путь.
Выгружаемся на том берегу. Сразу выдают полкило хлеба каждому, тут же на снегу, по тарелке горячего супа, масло и сахар, — царское угощение, мы уже давно от такого отвыкли.
Затем дают направление к местным жителям, на ночевку. Это село Лаврове, старое ладожское село. Обосновываемся в избе. Тесно, но тепло. Крестьянская семья, старики — муж с женой и невестка; сын в армии. Спим на полу. Эвакуированные. Двое-трое солдат, из тех, кто охраняет эшелоны.
Ночью скандал — один из солдат полез к невестке. Старики орут на солдата, главный их аргумент: «Она же не хочет, а он лезет». Грозят пожаловаться генералу.
На другой день, после горячего супа, в теплушку. Повезет, куда — неизвестно. В вагоне исключительно рабочие с завода «Большевик». Ну и насмотрелся я на этих рабочих. Обыкновенно я видел их в школе тихих, смирных, приветливых. Теперь они злые, нахальные, хамоватые, преобладают «активисты». Ко мне сразу воспылали ненавистью, как к интеллигенту и как к «еврею». У меня и вообще-то иудейская наружность, а тут еще, когда я небритый и в шапке-ушанке, впечатление такое, что сейчас только из синагоги. Меня иначе и не называли как «еврей». Кто-то выразил удивление: «Еврей, а больной», на что тут же последовал ответ: «А черт их знает, они сейчас все дохнут с голоду. Жрать-то им нечего». Словом, можно раз и навсегда излечиться от народничества. К счастью, потом увидел и других, благодаря которым я так и остался народником.