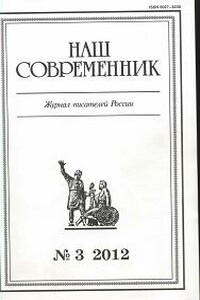В переплёте | страница 80
А разве девица Аделаида фон Горнгаузен – род приживалки в богатом доме – отягощённая собственным высоким происхождением и помешанная на любовных рыцарских романах, не появилась после в «Селе Степанчикове и его обитателях» (1859), разделившись на под-полковничью дочь девицу Перепелицыну и сумасшедшую Татьяну Ивановну, для которой «кто бы ни прошёл мимо – тот и испанец; кто умер – непременно от любви к ней»?
Даже пушкинское начало «Медного всадника» (1833)
восходит к хорошо известному Пушкину «Последнему новику»: «Он забыл всё, его окружающее; гений его творит около себя другую страну. Остров, на котором он находится, превращается в крепость; верфь, адмиралтейство, таможня, Академии, казармы, конторы, домы вельмож и после всего дворец возникают из болот; на берегах Невы, по островам, расположен город, стройностью, богатством и величием спорящий с первыми портами и столицами европейскими; торговля кипит на пристанях и рынках; народы всех стран волнуются по нём; науки в нём процветают. <…> Пётр встал. Он схватил с жаром руку Шереметева и говорит: – Здесь будет Санкт-Петербург!..»
Романы И.И. Лажечникова, переполненные событиями и персонажами, кипящими и перемешивающимися как в ведьмовском котле, ждала такая же запутанная и бурливая судьба. Выйдя из печати в 1832 г., уже через год «Последний новик» потребовал допечатки. Третье издание появилось в 1839 г. Книги Лажечникова, по слову Белинского, не раскупались, а расхватывались.
Но вдруг, по решению цензурного комитета, романы «Последний новик» и «Ледяной дом» оказались запрещены к изданию. Дважды – в 1850 и в 1853 гг. – от Московского и Санкт-Петербургского цензурных комитетов следовало распоряжение: «Не дозволять этих романов к напечатанию новым изданием». И лишь в 1857 г. не без участия служившего цензором И.А. Гончарова удалось Лажечникову добиться разрешения на переиздание своих произведений.
С тех пор исторические романы И.И. Лажечникова переиздавались неоднократно, подтверждая тем самым слова Пушкина о том, что многие страницы его «будут жить, доколе не забудется русский язык».
От того времени, когда Белинский называл Лажечникова «лучшим русским романистом», русская литература выросла и разбогатела. Но из той плеяды, что создавала в России исторический роман, пожалуй, именно И.И. Лажечников остался наиболее памятен читателю и в большей степени, чем кто бы то ни было из коллег, интересен даже и по сей день.