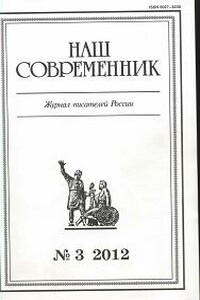В переплёте | страница 57
Что же касается рассматриваемого нами понятия, то ни в каком случае, ни при каком контексте оно не может быть воспринято как метафора. Поэтому объяснить его неуместное использование, ссылаясь на изменившийся контекст, невозможно. Тем более что понятие «новый реализм», обозначающее реалистическое направление постсоветской русскоязычной литературы, находится вне связи с историческим и культурным контекстом, а собственная история этого понятия так коротка, что не оставляет возможности, ссылаясь на внешние изменения, взглянуть на него как на метафору.
Несложно проследить историю возникновения этого понятия. Принято считать, что после распада СССР в отечественной словесности в качестве главенствующего направления утвердился постмодерн или постмодернизм. Другими словами, это произведения, для которых в той или иной степени характерны следующие черты: интертекстуальность; пародийность и ирония; многоуровневая организация текста; приём игры; неопределённость, культ ошибок, пропусков, фрагментарность и принцип монтажа (принцип ризомы); жанровый и стилевой синкретизм; театральность, использование приёма «двойного кодирования», явление «авторской маски», «смерть автора» пр. Однако всё это откровенно не ново – цитирование, например, присутствовало в литературе и XX, и XIX вв. Взять хотя бы «Пиковую даму» А.С. Пушкина и «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. То, что называется «интертекстуальность» прочно связывает два произведения. Однако это не превращает Достоевского в постмодерниста. Да и прочие черты, характеризующие литературу постмодерна, в той или иной мере встречались в литературе классической и в литературе модерна. В то же время постмодернизм – это не только гипертекст вроде романа «На ваше усмотрение» Р. Федермана.
Но нас, прежде всего, интересует так называемая «смерть автора». Ведь Р. Барт, описавший устранение Автора, постоянно подчёркивает новизну явления, противопоставляя Автора и скриптора, прошлое и настоящее. К тому же XX–XXI вв. характеризуются целой связкой разного рода смертей. Смерть Бога, смерть Буржуа, смерть Отца и, наконец, смерть Автора. Когда Р. Барт рассуждает о «смерти Автора», он исходит из того, что существует одно-единственное восприятие Автора. В частности, он пишет, что «для критики обычно и по сей день всё творчество Бодлера – в его житейской несостоятельности». И далее: «объяснение произведения всякий раз ищут в создавшем его человеке». Однако можно не обращать внимания на «житейскую несостоятельность» Бодлера и пребывать в уверенности, что «Цветы зла» мог написать только Бодлер. Потому что именно пафос Бодлера определил эту книгу и оставил на ней свою печать. И неважно, был ли Бодлер состоятелен или нет. Важно, что его индивидуальность во взаимодействии с действительностью породила произведение, непохожее на другие. Речь, разумеется, идёт о подлинном творческом, а не ремесленном делании и не игре, не о создании текста ради текста, когда практикуются методы не совсем творческие вплоть до группового письма. Творческий акт интересен именно Автором. В случае создания текста ради текста Автор действительно не важен и не нужен, как не нужен покупателю рабочий фабрики, создающий красивые и полезные вещи. Тем не менее, промышленное производство не отменит ручную и штучную работу.