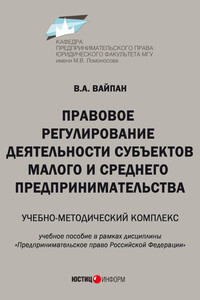Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы преодоления | страница 82
Проблема заключается в том, что сам термин «лицо, находящееся в беспомощном состоянии» понимается неоднозначно. Толкуя это состояние то как «неспособность жертвы оказать убийце сопротивление или уклониться от встречи с ним»[272], то как «невозможность оказывать активное сопротивление виновному»[273], либо как такое, при котором потерпевший «лишен возможности оказать сколько-нибудь эффективное сопротивление убийце»[274], большинство специалистов, тем не менее, полагали, что к указанным лицам следует относить больных, престарелых, малолетних, а также находящихся в бессознательном состоянии, в обмороке, сильном опьянении или во время сна.
Никакого другого толкования рассматриваемого понятия, кроме доктринального, на момент вступления в силу УК РФ, не было. Поэтому не удивительно, что практикой оно было воспринято как руководство к действию.
Так, в 1997 году Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала, что убийство спящего потерпевшего путем нанесения ему трех ударов топором по голове обоснованно квалифицировано по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии[275].
9 сентября 1999 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала правильной квалификацию по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ действий Слободнюка, который совершил убийство, нанеся не менее 14 ударов молотком по голове потерпевшему, в то время как тот спал, будучи в состоянии опьянения. 24 ноября 1999 г. та же инстанция согласилась с осуждением Шафоростова по п. «в» ч. 2 ст. 105 за убийство двух лиц, которые находились в тяжелой степени опьянения и спали[276].
Однако такая практика просуществовала недолго. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве» от 27 января 1999 г. в п. 7 указывалось, что «к лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее»[277]. Как видно, к указанной категории лиц Пленум не счел возможным отнести спящих. И хотя, как верно подметил А.И. Рарог, «ни из Конституции РФ, ни из Федеральных конституционных законов не следует, что разъяснения Пленума Верховного Суда РФ имеют нормативный характер и являются обязательными для судебных органов страны»[278], Верховный Суд не мог не понимать «чем его слово отзовется». Такие «рекомендации» не могут оставаться незамеченными и, прежде всего, для самого Верховного Суда.