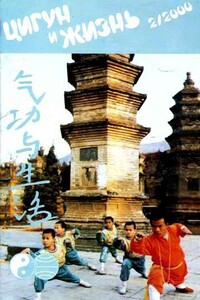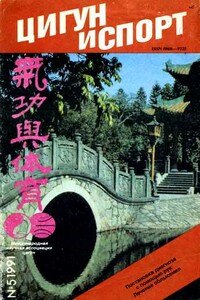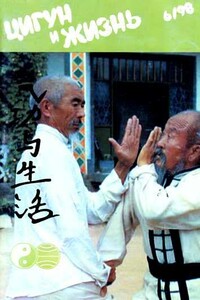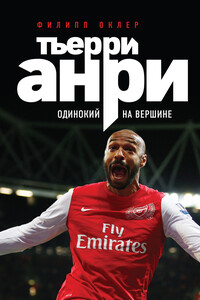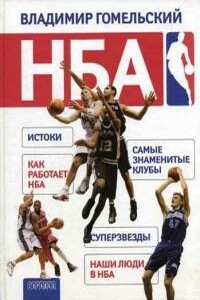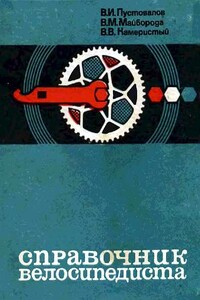Цигун и жизнь, 1992 № 02-03 | страница 21
При не очень точном обобщении можно сказать, что ушу как искусство отдает предпочтение пластике и ритму движений человеческого тела, его художественной выразительности; лечебно-медицинское ушу направлено на оздоровительные цели, на достижение долголетия; у шуистов-конфуцианцев больше интересуют проблемы этики и морали, социологии и человеческих отношений; у ушуистов-буддистов высочайшие достижения в духовном и психическом усовершенствовании; даосские ушуисты проводят серьезные исследования природы и жизненных процессов. Конечно, каждая система вырабатывает свои принципы единоборства и, соответственно, технику развития внутренних сил. Но в общем, целостном подходе все пять систем исходят из одного корня, взаимосовершенствуются, а на высших уровнях сливаются воедино, т. е. разными путями приходят к одной цели. Поэтому, говоря по существу, китайское ушу является одной единой школой.
Неправильно было бы предполагать, что ушу является лишь объектом философских исследований. Оно само по себе уже является продуктом полного слияния психофизической культуры спорта и искусства единоборства с философией. Китайская философия — не только средство исследования ушу, она сама уже — неотъемлемая его часть, его душа. В силу оригинальности и специфического характера китайской философии никакая другая философская система не в состоянии заменить ее место в ушу. Слияние физических, психических и философских элементов в технике ушу достигло такого высокого уровня, которого обучающийся, не овладевший принципами китайской философии, достигнуть не в состоянии. Каждый шаг в таком обучении, преодоление каждой новой трудности, каждая новая ступень сопровождаются поворотом в сознании, поворотом в способе мышления. Без таких поворотов усовершенствование неосуществимо. А это значит, что овладение мастерством ушу высоких категорий требует синхронного овладения как его психофизической техникой движений, так и философским методом, кроющемся в ней.
Находясь лицом к непрерывно меняющейся вселенной и человеческому жизненному процессу (т. е. к динамике, к движению), наши предки-мудрецы обнаружили, что тут находят место также относительно уравновешенные системы и закономерности (т. е. статика, покой) и что только при наблюдении движения «из покоя», т. е. только при наблюдении всего неустойчивого, изменчивого, движущегося с позиций сравнительно устойчивых, становится возможным одновременное познание закономерностей взаимного превращения состояний покоя и движения и овладение этими закономерностями. А затем стало возможным и практическое владение состоянием гармонии между покоем и движением. Нетрудно уловить, что подход китайских философов к проблеме состояний покоя и движения (постоянства и изменчивости и т. д.) разработан в том же духе, что и предыдущие проблемы беспристрастного (покой) и пристрастного (движение) подходов в познавательном процессе.