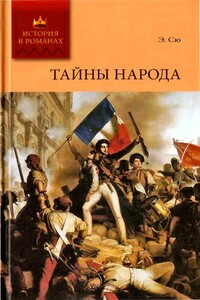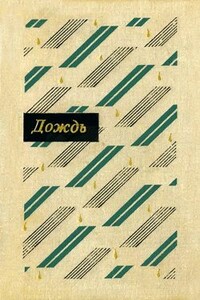На изломе | страница 30
И до самого вечера двигались через Москву люди и кони, оглашая воздух нестройным гулом голосов, рева и топота.
Кряж нашел княжеский отряд под началом старого Антона и присоединился к нему, усмехаясь веселой улыбкой.
– Чего зубы скалишь? – угрюмо спросил его Антон.
– А весело! – ответил Кряж. – Ровно на свадьбу едем!..
IX
Сила солому ломит
Темный вечер 30 апреля в канун царского отъезда опустился над Москвой. Рыжий Васька, Тимошкин сын, выбежал играть из дома. Он поймал молодого щенка и четвертовал его в поле, недалеко от «божьего дома», после чего наткнул на палки его голову и лапы и побежал к дому на ужин, как вдруг до чуткого слуха его донеслись осторожные шаги; он тотчас припал к земле и скрылся за толстой липой. В темноте прямо на него надвинулись три тени и остановились шагах в двух, так что Васька даже попятился и, сжав в руке нож, насторожился.
– Рано еще, – сказал один.
– Пожди, сейчас Косарь подойдет. Тогда и двинемся.
Васька задрожал с головы до пят. В одном голосе он признал знакомый. Ему тотчас вспомнились оловянные рубли, за которые отец вздул его так, как может драться только палач, и злоба закипела в его груди.
– Ужо вам, – пробормотал он и подполз ближе.
Знакомый голос сказал:
– Неустрой-то с задов петуха пустит?
– Да, – ответил другой, – как Панфил совой прокричит. Ты только помни: от меня ни на шаг, уведу я ее, тогда воруй, а до того ни-ни!
– Словно впервой, – обидчиво возразил знакомый голос.
Как яркой молнией имя Панфил озарило смышленую башку Васьки.
«Не иначе как у боярина», – решил он тотчас и, отползши шагов пять, поднялся на ноги и пустился к боярскому дому, что стоял особняком за Разбойным приказом, ближе к самому берегу.
Боярин сидел у себя в горенке распоясавшись и, плотно поужинав, допивал объемистый ковш малинового меда.
Глаза его заволоклись, толстые губы расплылись в широкую улыбку, и он бормотал себе под нос:
– А и дурень этот Бориска! Ой, дурень!.. Царский дядька, на государском деле сидит, а все ж дурень. На тебе! По бабе сохнет. Старому-то седьмой десяток идет, а он девку в семнадцать взял. Э-эй! Ты люби баб, а не бабу! – наставительно сказал он наплывшей свече и погладил бороду, широко улыбнувшись.
– Как я! Мне баба тьфу! Сейчас Акулька люба, а там Матренка… Акулька… – Он задумался и покачал головой.
– Кобенится, на ж! Нонче ей подвески дам, а станет опять старое тянуть – плетюхов. Да!
Он поднялся, тяжко опираясь на стол, и хотел идти, когда в горницу влетел запыхавшийся Васька и чуть не сшиб его с ног.