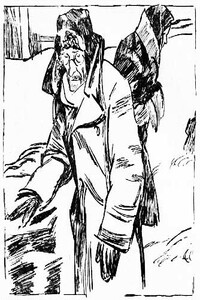Древнескандинавская литература | страница 58
Известно знаменитое высказывание автора «Круга Земного» о правдивости скальдических хвалебных песней: «Когда Харальд Прекрасноволосый был королем Норвегии, Исландия была заселена. У конунга Харальда были скальды, и люди еще помнят их песни, а также песни о всех конунгах, которые потом правили Норвегией. <…> Мы признаем за правду все, что говорится в этих стихах о походах или битвах. Ибо, хотя у скальдов в обычае всего больше хвалить того правителя, перед лицом которого они находятся, ни один скальд не осмелился бы приписать ему такие деяния, о которых все, кто слушает, да и сам правитель, знают, что это — явная ложь и небылицы. Это было бы насмешкой, а не хвалой». В самом деле, несмотря на шаблонность изображения и условность деталей, всякая скальдическая хвалебная песнь — это сухой и точный перечень индивидуальных событий, в принципе определимых хронологически и географически. Никакого сознательного вымысла в них нет. Это объясняется тем, что возможность сознательного вымысла в поэзии была вообще неизвестна, вымышленные события потому были бы приняты за насмешку, что не существовало отличия художественного вымысла от лжи, как не существовало и самого понятия «художественный вымысел». Сознательный отбор фактов действительности, их обобщение и преобразование в художественный вымысел были еще невозможны.
Ценность скальдических хвалебных песней как исторических источников была понята еще авторами «королевских саг» (см. ниже, с. 384 сл.). В этих сагах стихи из скальдических хвалебных песней обычно приводятся в качестве исторических документов. Скальдические хвалебные песни и сохранились большей частью именно как цитаты в «королевских сагах». Однако в свое время они сочинялись, конечно, вовсе не в историографических целях. Назначением скальдической хвалебной песни было оказать определенное действие, а именно прославить того, к кому она была обращена, обеспечить ему славу.
В языческое время господствовало представление, что убийство на поле битвы было посвящением убитых Одину и его священным животным — во́ронам и волкам. В скальдических хвалебных песнях это представление нередко находит прямое выражение. Битва была торжественным актом, аналогичным человеческим жертвоприношениям в Упсальском храме, о которых рассказывает Адам Бременский (см. выше, с. 309–310). Поэтому обязательные в скальдических хвалебных песнях упоминания о том, что прославляемый обагрил свой меч, оставил на поле битвы множество трупов и утолил голод и жажду во́ронов и волков, в языческое время были, в сущности, описаниями ритуальных актов, которые, будучи закреплены в стихах, должны были сохранять свою действенность на все то время, пока эти стихи хранились в памяти людей (ср. выше, с. 296–297 и 300). Но, вероятно, еще в языческое время кормежка волков и воронов трупами и все прочее стали условной поэтической фразеологией, и об условности этой фразеологии свидетельствует, в частности, то, что эта фразеология продолжала использоваться в хвалебных песнях и после христианизации.