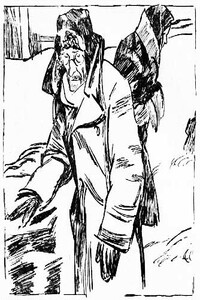Древнескандинавская литература | страница 41
Таким образом, сущность эпического времени, как оно представлено в героических песнях «Эдды», заключается в том, что события (которые сами по себе, как и события в мифах, — только куски времени) как бы эшелонируются в прошлое. На прошлое как бы накладывается сетка, которая придает ему глубину, хотя ячейки этой сетки не абстрактные единицы времени — месяцы, годы, века, — а звенья генеалогической цепи, т. е. человеческие жизни, куски времени, наполненные конкретным содержанием.
В противоположность мифическим эпические герои (т. е. герои героических песней) — это, как правило, фигуры идеальные. Таковы Хельги, Сигурд, Гуннар и Хёгни, Хамдир и Сёрли. Все они идеальные воины, все они наделены силой и храбростью в самой высокой степени, все они жаждут подвигов и не уклоняются, даже если знают, что, совершая их, погибнут. Все они неукоснительно выполняют свой долг и всегда бесстрашны перед лицом смерти.
Но проявление силы и храбрости, многочисленные победы над врагами — всего лишь внешние атрибуты героизма и необязательны в сказании о герое. Поэтому героем сказания может быть и женщина. Сущность героизма — в безграничной силе духа, в победе человека над самим собой, в свершении им чего-то трагического для него самого, часто такого, что ведет его к гибели. Поэтому героическое сказание — это, как правило, не панегирик, а трагедия, его сущность — горе и гибель.
Герой или героиня одерживают победу над собой во имя того, что представлялось высшим долгом, а именно для поддержания чести рода или героической чести вообще. А поддержание чести заключалось прежде всего в мести. Убийство из мести было делом не зазорным, но, наоборот, наиболее славным. Ради мести человек шел на все. Месть была высшим долгом, для выполнения которого следовало подавить в себе и страх смерти, и любовь, и материнское чувство. Так, Хамдир и Сёрли идут на смерть, чтобы отомстить за свою сестру Сванхильд; Брюнхильд добивается смерти Сигурда, которого она любит, чтобы отомстить за свою оскорбленную героическую честь; Гудрун убивает своего мужа Атли и своих сыновей от него, чтобы отомстить за своих братьев Гуннара и Хёгни.
Хотя конкретное историческое лицо, послужившее прообразом эпического героя, не всегда удается установить (так, оно установлено для Гуннара, Атли, Хамдира и Сёрли, но не для Хельги и Сигурда), такой реальный прообраз существовал или во всяком случае мог существовать у всякого эпического героя (предположение, что прообраз эпического героя — это мифический герой, лучше всего тем и опровергается, что эпические герои — это идеализированные образы, а мифические — нет). Между тем существование реального прообраза у мифического героя совершенно невероятно, и в отношении героев эддических мифов оно никогда никем и не предполагалось. Мифический герой — это, конечно, целиком продукт фантазии, т. е. творческого обобщения действительности. Несомненно, однако, что мифический и эпический герои — это последовательные стадии в развитии представления о личности. Таким образом, конкретный образ личности, не имеющий прообразом конкретного лица, уступает место идеальному образу личности, имеющему прообразом конкретное лицо. Другими словами, реалистическое изображение личности уступает место ее идеализации. Но тождествен ли мифический реализм реализму Нового времени? Не есть ли он какая-то более ранняя ступень в истории соотношения частного и общего в представлении о личности? Если в литературе Нового времени реалистические образы личности — это типы, т. е. обобщения, осознаваемые как обобщения, то реалистические образы личности в мифе — это обобщения, не осознававшиеся как обобщения, т. е. не типы, а единичные личности (боги). Нечто аналогичное такому обобщению представляет собой совпадение особи с видом, которое, если верить этнографам, имеет место в восприятии дикарем-охотником дикого зверя. В эддических мифах звери, трактуемые как единичные личности, а также карлики и тому подобные существа, трактуемые как коллективные личности, — это, по-видимому, тоже такие примитивные обобщения.