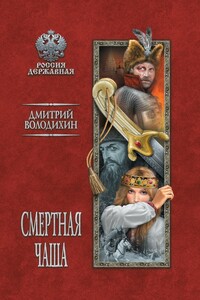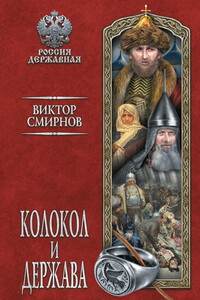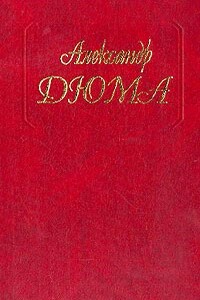Разин Степан. Том 1 | страница 20
Он был недалеко от знакомого тына, уже ступил на старое пожарище и тут только заметил, что за ним идут три человека стороной.
«Эти не хмельные! Истцы!»
Один из троих подошел к атаману. На нем чернела валяная шапка, серел фартук торговца:
– Эй, слушь-ко, боярский сын!
Атаман сдвинул каптур на затылок, повел глазами.
– Не светло, а зрак твой видной, – не ворочай глазом, я человек простой!
– Чего тебе?
– Ты зряще купил экой каптур – ен морозовской и кафтан турской бога…
– Дьявол!..
Атаман выдернул из-под полы пистолет, щелкнул курок, но кремень дал осечку. Подбежали еще двое. Атаман шагнул быстро к первому, ударил торговца по голове дулом. Парень осел, не охнув.
– А вы? – крикнул он грозно.
Двое бежали прочь.
Атаман гнался долго за двумя и скрипел зубами, но бегали истцы скоро. Он проводил их глазами за Москворецкий мост, вернулся к убитому, поднял его, сунул в яму, в которой когда-то выгорел столб.
Сам не зная зачем, навалил на яму два обгорелых бревна:
– Бревна не на месте, а тут черту крест!
Знакомым путем прошел через пожарище и скрылся в кустах обгорелой калины.
За столом на широких ладонях лежит курчавая голова.
Ириньица, в шелковом летнике, в кике бисерной по аксамитному[26] полю, разливает в большие чаши мед.
– А и что-то закручинился, голубь-голубой? Пей вот!
Атаман поднял голову. Взгляд потускнел, на худощавом лице – усталость.
– Жонка, не зови меня голубем, – сарынь я.
– Ой, то слово чужое! А что такое сарынь, милой?
– Сарынь – слово басурманское – сокол, а по-нашему, по-казацки – коршун!
– Уж лучше я буду звать тебя соколом. Не кручинься, пей, вот так.
– Ух, много пил, – а и крепкий твой мед! Не кручинюсь… Плечи и руки томятся по делу. Много его на Москве, да во Пскове наши играть зачинают… Меня же тянет на Дон.
– Жонка, видно, ждет там? И зачем ты, сокол, такой сладкой уродился?
– Думаешь… приласкаю, а рука за пистоль тянется – убить… Боярыню нынь приласкал.
Глаза женщины загорелись злым:
– Змею ласкать? Змея, сокол, завсегда с жигалом!
Атаман, выпивая, обмолвился раздумчиво:
– Есть у меня чутье, как у зверя, и знаю я… убить или простить… Тут надо было так – простить…
– Пей!.. Я нацедила… Вишь ты какой!.. Погоди-ка, чокнемся.
Она потянулась к нему и, чокаясь, сверкнула накапками вышитых жемчугом рукавов, обхватила его за шею, целуясь.
– Не висни, жонка!
– Аль уж не любишь?
– Не лежит душа к любви… Другое вижу… вижу далеко…
– А я ничего не вижу, люблю тебя, как молонью. Страшной сегодня Москву видела, ой, страшная была Москва! И что ты с собой за заветное носишь, что народ за тобой так липнет? Готов был народ все изломить, и Бога и царя кинул. А я бы уж, если б воля была, приковала сокола к моей кроватке золотой цепью, перлами из жемчугов опутала бы кудри и не выпустила, не отдала никакой чужой красе, выпила бы твою кровь и тут померла с тобой какой хошь лихой смертью.