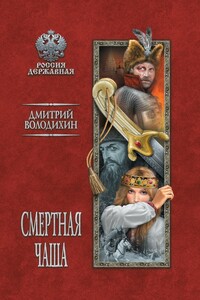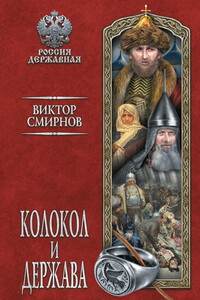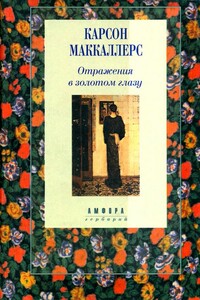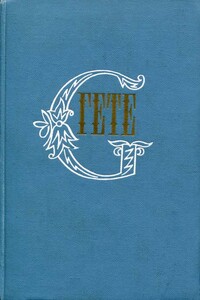Ермак, или Покорение Сибири | страница 7
Не пора ли после сего познакомить читателя с лицами, присутствовавшими на празднике у атамана Луковки. Начнем с него самого: представьте себе старика с белою как лунь головой и серебряной бородой, с румяными щеками, широкоплечего, бодрого, веселого, и будете иметь верное изображение Луковки. На нем была шелковая рубаха, подпоясанная шелковым же поясом. По правую руку его сидел жених. Сей последний был одет по-казацки самым щегольским образом, по тогдашнему обычаю: на нем был атласный кафтан с частыми серебряными нашивками; за шелковым турецким кушаком заткнут был булатный нож с черенком рыбьего зуба, а на ногах – красные сафьянные сапоги. Но, несмотря на полный казацкий наряд, с первого взгляда можно было угадать, что этот молодой человек был чужд сему обществу, что он вскормлен не на берегах тихого Дона. Его серые глаза, хотя беглые, не блистали огнем, который отличает обитателей Дона от всех других племен, составляющих обширное Русское царство, который служит казаку вывеской необыкновенной сметливости, предприимчивости, быстроты. Нет! Эти усы и кудри, красные как огонь, эта русая мягкая борода на белом лице, не принадлежат донцу, с малолетства подвергающемуся влиянию стихий, ветра и солнца. Этот взгляд исподлобья не сроден казаку, имеющему чело открытое, светлое. И точно, атаман Луковка называл молодого зятя своего князем Ситским, за которого, говорил он, просватал дочь свою Велику, бывши тому два года назад в Москве. И прекрасная Велика сидела возле жениха своего в самом богатом наряде: парчовый кубылек и бархатный танк с куньим околышем, из-под коего висели дорогие жемчужные чикилики; но блестящий наряд совершенно противоречил унылому виду красавицы. Алые щеки ее покрыты были смертной бледностью, а черные глаза, горевшие до того как полуночные звезды, зарделись вокруг и редко, редко выказывались из-под длинных ресниц. Все приписывали сию перемену девичьей стыдливости или горести невесты, покидающей дом родителей, расстающейся с удовольствиями юности. Но нет! Эта унылость открывала муку душевную, была вывеской сердца растерзанного. В продолжение всего праздника не выкатилась из очей Велики ни одна капля слезы отрадной, ни одна улыбка не оживила прелестных уст ее: она походила скорее на жертву, обреченную на смерть, чем на невесту, обрученную жениху.
И страдания Велики понимал только один мужчина средних лет, величавой, благородной наружности, несмотря на его небрежный, воинственный наряд и неизменявшуюся угрюмость, противоречившие совершенно щеголеватости и разгульной веселости прочих гостей. Всякий раз, как незнакомец бросал на невесту или жениха свои дикие взгляды, густые брови его хмурились пуще вершины Казбека при дуновении индийского бурана, широкое чело его бороздилось морщинами, словно море Хвалынское черною зыбью – предтечей ужасной бури. Ни одна также улыбка не сорвалась с полумертвых уст его, закутанных в черную окладистую бороду; жилистая рука, казалось, срослась с его саблей, висевшей на ременном шебалшаше вместе с серебряным рогом для пороха, стальным мусатом