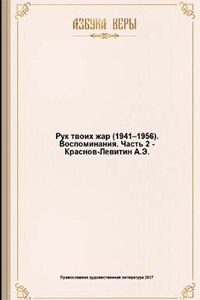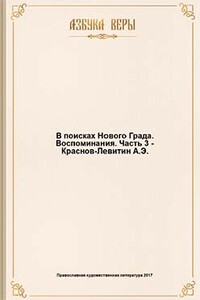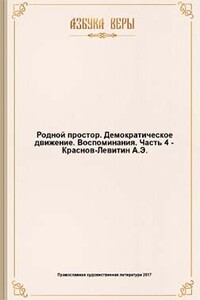Лихие годы (1925–1941) | страница 52
Но вот входим в храм. Храм давно не ремонтированный, с осыпавшейся штукатуркой; старосты еще не приноровились жить по-новому (исключительно на народную копейку, без всяких дотаций). В храме обычно очень холодно: парового отопления тогда еще не было, а натопить огромную каменную махину — дров не хватает. Народ. В основном женщины в платочках, старые и молодые. Среди них мелькают фигуры барынь, в старомодных, но дорогих шубах, в круглых шляпах. Они держатся всегда прямо, стоят не оборачиваясь. Изредка брезгливым тоном делают замечания перешептывающимся бабам. Среди мужчин обязательно вы увидите фигуру, старого офицера, подтянутого, выбритого (не из тех, которые просят милостыню — чертежника, бухгалтера); эти преклоняют одно колено, крестятся узким крестом — чистят пуговицы.
Рабочие в церковь ходили мало. Большей частью мелкий петербургский люд: почтальоны, дворники, сторожа, мелкие служащие. Шли иногда также и интеллигенты — юноши, девушки, читающие, ищущие, спорящие о церковных течениях, впоследствии погибшие почти все в лагерях.
Хочется вспомнить об одном из них.
Костя Сахарнов. Сын морского офицера, погибшего в революцию. Учился вместе со мной в школе, родом из Пскова. Жили страшно бедно: мать (счетовод), тетка, Костя и сестра — красивая, нервная, надменная девушка. Костя, веселый, говорливый, прислуживал в церкви, у Николы Морского. Я никогда не видел человека, столь преданного семейным традициям. Он благоговел перед памятью отца, у него не было никаких сомнений: он будет морским офицером в русском императорском флоте. В том, что большевики падут в ближайшем будущем, у него не было и тени сомнения. Когда я читал у Д. Панина о культе Белой Армии в семье Сологдина, — я невольно вспомнил Костю. Но жизнь в семье была тяжелая. Мать, очень приноровившаяся к советскому образу жизни, старалась не скучать. В семье были недостатки; мальчик вечно голодный, неодетый, необутый. Тетка ворчливая, всегда недовольная. Домом у него был алтарь. Прислужники — это опять особый мир: мальчишки, как все мальчишки: баловные, веселые, но любящие церковь, преданные ей со всем юношеским жаром.
Печально сложилась судьба Кости. По окончании школы он попал в торговое мореходное училище, плавал на торговых судах (по Волге, Днепру) — за границу его не пускали. Одновременно он был иподиаконом у епископа Сергия Зинкевича (викария Питерской епархии), у которого мы с ним в детстве были посошниками… В 1939 году, во Владимирском соборе, я видел его сестру. Она отвела от меня взгляд, т. к. была одета буквально в лохмотья и не хотела, чтобы я ее узнал. Я все же спросил: «Где Костя?» «В лагере. Переписка запрещена», — сказала она и быстро пошла к дверям. Константин Сахарнов — один из многих.