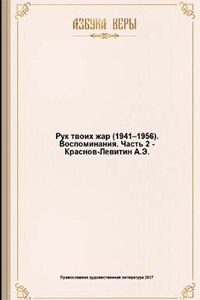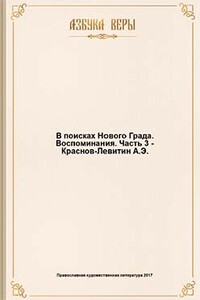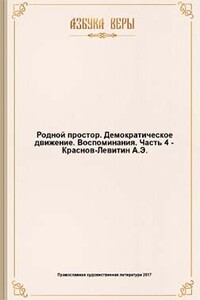Лихие годы (1925–1941) | страница 50
Сейчас там помещается фабрика. Помню, в 1936 году, когда храм был уже закрыт, мне удалось проникнуть туда через боковые двери. Боже! Что я увидел: иконы, поваленные навзничь; гулким эхом раздавались под куполом грубые голоса. Эхо разносило чью-то перебранку. Царские двери были сорваны и брошены на солее, но запрестольный образ все еще висел на стене, и через отверстие, там, где были царские двери, все также победно и радостно смотрел Спаситель с пасхальной хоругвью в правой руке.
В остальных приходах было примерно так же. Всюду был популярный батюшка-исповедник, сгинувший в лагерях. Всюду были свои ловкие и умные священники, приспосабливающиеся к советской власти. Всюду были корыстные и продажные люди, пригревшиеся у церковного ящика. И всюду было много глубоко верующих людей, искавших благодати и радости духовной в молитве.
В это время шепотом молились по храмам об убиенном митрополите Вениамине, вздыхали о заключенных священниках, поминали недавно скончавшегося Патриарха Тихона.
И все-таки, все-таки, когда меня спрашивают о том, как я себе представляю идеальную церковную общину, я всегда вспоминаю Питер 20-х годов.
Только недавно закрылись Петроградская Духовная Академия и Семинария; закрылись все церковные журналы, издательства, богословские и философские общества. И все профессора, магистры, кандидаты богословия, церковные писатели — все хлынули на приходы. Стали невозможны диссертации, богословские труды, статьи, монографии — единственное, что осталось, — церковная кафедра.
Она была в то время еще относительно свободной: проповедь не запрещалась, если не было непосредственных политических призывов. В то же время священник освободился от стеснительной опеки церковной власти: никаких конспектов, никакого контроля, никаких отчетов — архиереям было не до того. Проповедь в это время стала подлинно творческой.
Тогда еще не было принципа принудительной регистрации священнослужителей, поэтому в Питере, как и в Москве, в это время было много заштатных архиереев и иереев. Приехал из провинции, договорился с настоятелем — и служи себе. Церковная смута способствовала оживлению церковной проповеди, т. к. в связи с расколом возникло множество вопросов; богословских, социальных, канонических. И все они освещались с церковной кафедры.
Входили в обычай тематические беседы: по средам и пятницам, после вечерни, читались акафисты, а после акафиста предлагалась «беседа» — собственно не беседа, а богословская лекция, продолжение предыдущей. В некоторых храмах даже устанавливались скамейки для слушателей.