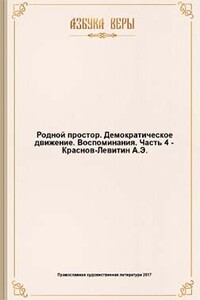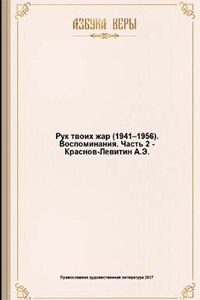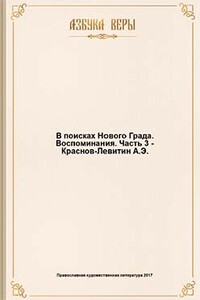Лихие годы (1925–1941) | страница 17
Евфросиния Федоровна стала жить так, как ее предки жили в лучшие времена рода Мосаловых. На главной улице в Тифлисе был выстроен великолепный особняк, про который острили: вот дом, выстроенный за счет русских писателей. Все четыре дочери Виктора Антоновича вышли замуж богатыми невестами. Но он ни о чем не знал: он умер 55-и лет от роду, в 1893 году, когда было лишь приступлено к 1-му изданию его книги.
Он до конца жизни пользовался огромным уважением со стороны как начальства, так и общества. Но никогда не отступал от идеалов своей юности. Как-то раз 1-ую Тифлисскую гимназию посетил наместник Кавказа граф Воронцов-Дашков в сопровождении попечителя учебного округа. В тот же вечер квартиру директора посетил курьер (телефонов тогда на Кавказе еще не было). «Попечитель просить Ваше Превосходительство ровно в 11 часов быть у него». Пришел. Попечитель принял деда, по обыкновению, любезно. Рассыпался в комплиментах: наместник очень доволен — ему все очень понравилось. Дед слушает и думает: «Что-то не то: не для этого же он меня вызвал». Но вот аудиенция окончена: Виктор Антонович встает. Попечитель (смущенно, опустив глаза): «Виктор Антонович! У Вас там висят портреты Белинского, Некрасова и Чернышевского с Добролюбовым.
Наместник Вас просит портрет Чернышевского снять. Неудобно: все-таки государственный преступник». (Интересно, что сказали бы сейчас директору советской школы-десятилетки, если бы он вздумал повесить в школе портрет, допустим, Солженицына.)
Дом на Великокняжеской в Тифлисе был построен через несколько лет после смерти деда. Припомнили мне этот домик через 60 с лишним лет в журнале «Наука и религия». Из этого журнала я узнал, что «религия для меня лишь орудие мести за бабушкин домик». В своем ответе я сделал невинное лицо и спросил: «Что Вы? Какой домик: мой дед был приказчиком». При этом я умолчал о многом: и о том, что приказчик был много богаче тех, кто его у себя оформлял, ну и, конечно, о бабушкином домике. А «домик»-то действительно был, и не домик, а дом — с швейцарами, с лакеями, с горничными. И одна из первых фраз, которые я помню: «Большевики украли у баби домик». Но, между нами говоря, я думаю, что, если бы «домика» и не было, моя религиозность не была бы меньшей…
Из четырех дочек самая балованная была последняя, Надежда, — моя мать. Она училась в Тифлисском Институте благородных девиц имени Императора Александра I, который окончила с золотой медалью. Это был период наивысшего расцвета семьи Мартыновских. В последнем классе бабушка захотела, чтоб Надя жила дома. Разрешили из внимания к заслугам покойного отца, но с условием, чтоб на улицу она выходила лишь в сопровождении лакея. Словом, аристократизм был в полном ходу. Подводила лишь наружность. Надежда Викторовна имела широкое, простое русское лицо и скорее напоминала деревенскую поповну, чем благородную институтку. С детства (с 6 лет) она мечтала быть актрисой и разыгрывала спектакли в гостиной, разговаривая с воображаемыми персонажами. В более старшем возрасте участвовала в любительских спектаклях.