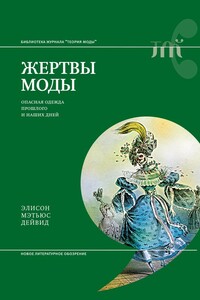Красный | страница 57
В средневековой культуре сочетание красного с черным воспринимается как в высшей степени негативное. Вот почему именно в эти цвета художники окрашивают тело Дьявола, а также метафорическое изображение ада: громадную пасть чудовища Левиафана, о котором говорится в библейской Книге Иова (41: 11). В любом ином контексте художники всячески стараются избегать сочетания красного и черного: по-видимому, оно вообще было неприятно глазу средневекового человека. В одежде вплоть до XV века оно появляется редко, потому что считается некрасивым и вдобавок приносящим несчастье[139]. А в гербах оно недопустимо. Шесть геральдических цветов разделены на две группы: в первую входят белый и желтый, во вторую — красный, синий, зеленый и черный. Строгое, не допускающее исключений правило, родившееся одновременно с первыми гербами, то есть в середине XII века, запрещает располагать рядом или в наложении друг на друга два цвета из одной группы. Очевидно, это правило продиктовано заботой о том, чтобы герб был хорошо виден на расстоянии: ведь гербы первоначально создавались именно для того, чтобы на поле сражения или на ристалище рыцарей можно было узнать издалека по их щитам. В дальнейшем для гербов нашлось и другое применение, но, по статистике, нарушение этого правила составляло не более одного процента[140]. Помещать красное (червлень) рядом с черным (чернью) или поверх черного категорически запрещено, и в реальных гербах такого практически не бывает. Только некоторые сугубо отрицательные литературные герои (вероломный рыцарь, жестокий и кровожадный сеньор, священник-еретик) могут иметь герб, в котором один из этих цветов накладывается на другой. Сочетание красного и черного в гербах таких персонажей говорит об их злонравии.
Но самое раннее и самое убедительное свидетельство нелюбви средневековых людей к этому хроматическому дуэту — шахматы. Когда эта игра появилась в Северной Индии в IV веке нашей эры, один из ее участников играл красными, а другой черными фигурами. Во всех азиатских культурах красный — главный антагонист черного, поэтому противостояние этих цветов на игровом поле воспринимается как очень напряженное и несущее в себе множество смыслов. Когда два века спустя арабо-мусульманская культура перенимает у индийской эту игру и распространяет ее по всему Средиземноморью, она сохраняет изначальные цвета фигур: в ее понимании столкновение красного и черного — нечто естественное и логичное. Но когда незадолго до конца первого тысячелетия шахматы добираются до Европы, приходится их европеизировать, то есть не только заново переосмыслить правила игры, но также и изменить цвет фигур: для средневекового христианского менталитета красный и черный не являются антагонистами. Между этими двумя цветами нет ничего общего, ни взаимного притяжения, ни отталкивания; в их сочетании, пусть даже всего лишь на игровом поле, есть что-то необъяснимое, дьявольское. Поэтому в течение XI века в какой-то момент черные фигуры заменяют белыми: красный и белый тогда считались наиболее несовместимыми, наиболее далекими друг от друга цветами, как в бытовом плане, так и в плане символики. Так будет продолжаться до XV века, когда шахматы постепенно примут вид, близкий к современному, и на доске появятся знакомые нам черные и белые фигуры