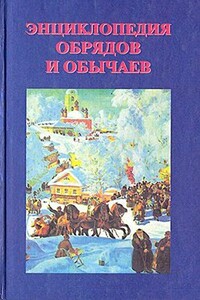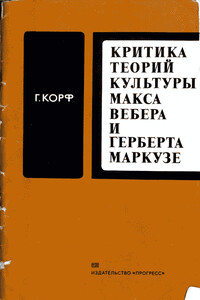Очерки истории европейской культуры нового времени | страница 45
Здесь, мне кажется, необходим комментарий. Внимание Европы к английскому драматургу в XVIII столетии действительно привлекли немецкие литераторы из «Бури и натиска», которые в 1771 году решили отметить в Страсбурге «День ангела» Уильяма Шекспира. Но главным в этом деле был вовсе не Гете. Он, правда, прислал в Страсбург из Франкфурта текст речи «Ко дню Шекспира», но «провозгласил великим поэтом» автора «Гамлета» все же не он, а Гердер. В конце шестидесятых годов XVIII века опубликовал свои переводы шекспировских пьес Кристоф Мартин Виланд, и уже в 1770 году в альманахе «Von deutscher Art und Kunst» была опубликована статья Гердера «О Шекспире». Авторитет философа, литературного критика и поэта Иоганна Готфрида Гердера в элитных кругах Германии и всей Западной Европы был в то время несоизмеримо большим, чем авторитет Гете, который только-только начинал писать стихи и, по собственному признанию, преклонялся перед Гердером.
Это замечание мне представляется важным, потому что Гердер был религиозным проповедником, противником не только французского классицизма, но и французского Просвещения и заподозрить его в желании навязать немцам арелигиозное мировоззрение никак нельзя. А между тем Толстой потому и занялся Шекспиром, что в его творчестве не было «религиозного содержания», якобы присущего драме изначально. И он полагал, что тем, кто создавал посмертную славу Шекспиру (по Толстому, начало процессу положил Гете), это было на руку – они сами, мол, отрицали религиозный смысл драмы. Думаю, такое заключение было бы неверным и касательно Гете, но вдвойне оно несправедливо по отношению к глубоко верующему протестантскому священнику Гердеру, первым в Европе прославившему Шекспира.
Конечно, Лев Толстой отдавал себе отчет в том, что одними только славословиями Гете (на самом деле Гердера) в адрес Шекспира необыкновенную популярность этого драматурга объяснить нельзя. И он пишет: «Основная же, внутренняя причина славы Шекспира была и есть та, что драмы его пришлись pro capite lectoris, то есть соответствовали арелигиозному и безнравственному настроению людей высшего сословия нашего мира». Толстой искренне верил, что вся беда в извращенном сознании высшего сословия, что народное сознание всегда оставалось религиозным, и опыт знакомства с русской крестьянской общиной помогал ему, несмотря ни на что, сохранять эту веру. Не забудем, однако, что сам Толстой признавал: религия способствует формированию у людей такого отношения к Богу, которое присуще не всему народу, а, прежде всего, «передовым людям». Парадокс, однако, заключается в том, что все эти люди, так или иначе, связаны с «совершенно развращенным», по мнению Толстого, высшим сословием. В результате – порочный круг. Искусство, рассчитанное на вкусы высшего света, сначала превращалось в пустую, безнравственную забаву для знатных и богатых, а затем начинало развращать широкие массы «посредством выставления перед ними ложных образцов для подражания».