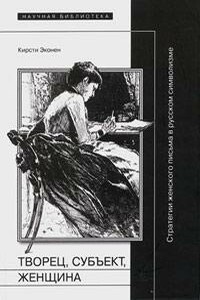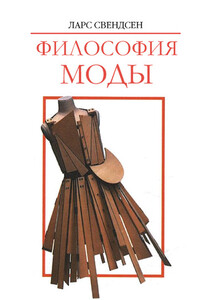Очерки истории европейской культуры нового времени | страница 32
Но так считала, прежде всего, элита общества. А что же простой народ? На народное сознание ни Платон, ни его последователи, конечно, особого влияния оказать не могли. Греческого философа простые люди, естественно, не читали, а если б и читали, то не поняли бы. Творения художников Ренессанса на них влияли, возможно, больше, чем Платон, но не настолько, чтобы изменить что-то существенное в их мировоззрении. Впрочем, витальность эпикурейцев была бы по нраву, наверняка, всем, но лишь тогда, когда условия жизни к ней располагали. В середине XV столетия, пока все было относительно благополучно, снисходительность церкви к исчезновению разного рода табу, скорее всего, простых людей устраивала. Но в конце века нагрянули лихие времена (нашествие на Италию чужестранцев, междоусобицы, чума), и тогда все здание Ренессанса зашаталось. Первая трещина появилась при Савонароле, рухнул же фундамент после 1527 года.
Савонаролу большинство флорентийцев боготворило. Именно боготворило, а не просто уважало. Вера в душах простых людей в конце кватроченто сохранялась гораздо прочнее, чем у аристократов – избалованных, капризных, жаждущих веселья и славы, любящих забавляться игрой в словесные хитросплетения. Безусловно, все люди любят плотские наслаждения, но получать удовольствие от так называемых «игр ума» могут далеко не все. И к радикальным переменам в окружающей жизни народ далеко не всегда относится с иронией. Михаил Бахтин, думаю, был не совсем прав, утверждая, будто «все акты драмы мировой истории проходили перед смеющимся (выделено мной – В. М.) народным хором». Иногда народ в переломные времена безмолвствует, чаще безумствует, еще чаще заливается слезами (последователей Савонаролы, между прочим, называли «плаксами»).
В момент, когда всему городу угрожала смертельная опасность (а во Флоренции в середине 1490-х так и было), простые люди с легкостью доверили свою судьбу тому, кто искренне верил в Бога, говорил понятные каждому вещи и всей душой за них переживал. Никто не сомневался, что для Савонаролы, настоятеля монастыря Святого Марка, любовь и глубочайшая преданность Богу были неотрывны от любви к ближним, т. е. к ним, простым смертным. Все понимали: он готов пожертвовать собой ради их спасения на том и на этом свете. Когда Савонарола обращался к тысячам прихожан, тесно заполнявшим на его проповедях флорентийский собор (тот самый, о строительстве которого, помните, рассказывал Лоренцо Валле его учитель), слова его зажигали абсолютно всех. Ему верили, как самому Христу. Ведь эти слова его были не просто разумными и доходчивыми, но исходили из самой глубины сердца, которое, казалось, готово было разорваться от чрезмерного напряжения. Такому человеку нельзя было не поверить.