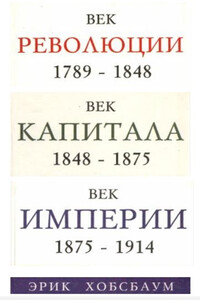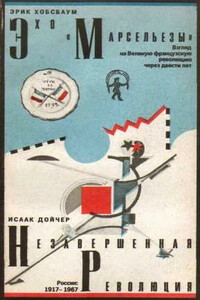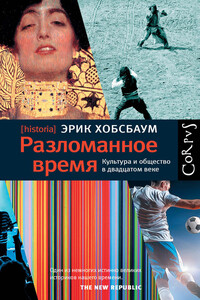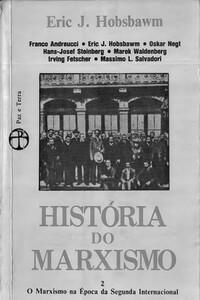Марксизм сегодня. Выпуск первый | страница 66
В столетнюю годовщину Парижской коммуны югославские и китайские коммунисты обратились к ее опыту в том виде, в каком он был описан и истолкован Марксом в «Гражданской войне во Франции». Очевидно, что в своих дискуссиях по теории революции и проблемам послереволюционного развития марксисты – каким бы парадоксальным это ни казалось – ссылались на Маркса с тем большей легкостью, чем меньше руководимые марксистами революции соответствовали марксистской модели.
Дискуссии о теории революции и о переходных фазах в конце концов сосредоточились на двух группах проблем – перехода к социализму в развитых капиталистических странах и возможности прийти к созданию в странах Восточной Европы таких ассоциаций, в которых согласно «Манифесту Коммунистической партии» свободное развитие каждого явится условием свободного развития всех. Что касается социалистического развития в передовых капиталистических странах, то для многих коммунистических партий образцом стал итальянский путь к социализму, и это продолжалось до тех пор, пока идеи «итальянского пути» не были в последние годы синтезированы в «еврокоммунизме». Это понятие объединяет идеи плюрализма, свободы мнений, свободы совести, печати, научного и художественного творчества, суверенного права народа смещать свое правительство и т.д. Что же касается проблемы соотношения представительной и прямой демократии, то никакого теоретического обоснования она здесь не получила.
В то же время в отношении стран Восточной Европы возникло две точки зрения: с одной стороны, появилась концепция «незаконченной революции» с выражением надежды и требования, чтобы надстройка была приспособлена к базису соответствующими мерами по демократизации; с другой – укрепилось мнение, что одно лишь отсутствие частнокапиталистической собственности на средства производства еще не позволяет говорить о социализме и что производственные отношения здесь следует считать этатистскими, типичными для госкапитализма.
На характер дискуссии по обоим этим вопросам решительным образом повлияла «пражская весна» и последовавшие за ней репрессии. «Пражская весна», как в фокусе, собрала в себе те проблемы, которые привлекли наибольшее внимание во время обсуждения теорий революции и государства переходного этапа (особенностью этого обсуждения было то, что все вопросы рассматривались в свете соотношения между демократией и социализмом). Можно ли поднять социализм на более высокую ступень развития средствами буржуазной демократии? Так ставил вопрос человек, сыгравший главную роль в событиях в стране, когда «пражская весна» уже отошла в прошлое. А действительно ли то, чему в 1968 году грозила опасность, было социализмом? И не являлось ли все достигнутое в переходный период лишь обеспечением буржуазно-демократических свобод? Можно ли было согласиться с той упрощенной формулой, которую многие марксисты повторяли в те дни, а именно – будто речь идет о соединении социализма и демократии, причем такого социализма, который нисколько не походил на социализм классиков марксизма, и такой демократии, которая в глазах марксистов оказывалась явно недостаточной?