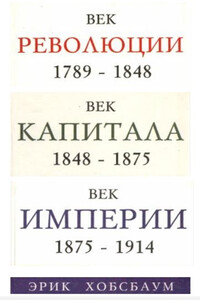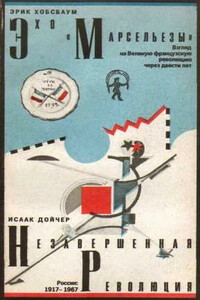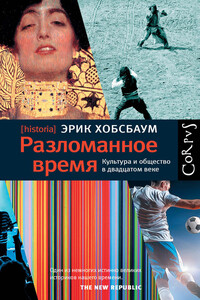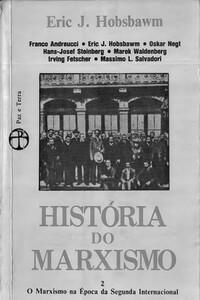Марксизм сегодня. Выпуск первый | страница 47
1. Передовые страны и национальные пути к социализму
Радикальные преобразования, происшедшие после второй мировой войны, поначалу были истолкованы многими марксистами как настоящие революции, поскольку частная капиталистическая собственность была в значительной мере экспроприирована, основные отрасли промышленности национализированы, а управление государством взяла на себя партия, объявившая себя марксистской. Отсталость большинства этих стран наводила на аналогию с советской моделью, однако тем же путем пошли два промышленно развитых государства – Восточная Германия и Чехословакия. Так как в большинстве случаев революционное рабочее движение в этих странах было довольно слабым, советские теоретики революции представили Красную Армию в качестве субъективного фактора, вышедшего за рамки собственной страны: по убеждению Сталина, революция должна была развиваться естественным путем, подобно расплывающемуся на воде масляному пятну.
Китайская революция, напротив, никак не увязывалась с ленинским вариантом марксистской модели, хотя Мао, выстраивая свою модель, использовал марксистские концепции, непрестанно обращаясь и к Марксу, и к Ленину. Но в модели Мао главной силой революции оказывались крестьяне, а установка о руководящей роли пролетариата находила выражение главным образом в руководящей роли марксистской интеллигенции. Кроме того, известную роль – не только на этапе антиимпериалистической и антифеодальной борьбы, но и в период построения социализма – должна была играть национальная буржуазия. Следовательно, и революционные вспышки в Африке, и кубинскую революцию нельзя считать простыми разновидностями этой великой антиимпериалистической революции; они имеют собственные четко выраженные черты, даже если каждый их боец и цитирует высказывание Мао о том, что необходимо чувствовать себя среди населения, как рыба в воде.
Главная проблема теории приобрела, таким образом, форму конкретных и острых вопросов. Является ли исторической закономерностью тот факт, что революция побеждает в отсталых странах, а не на промышленно развитом Западе, как это предсказывали Маркс и Энгельс? Имеются ли революционные перспективы у Запада или следует ждать, пока революционная волна, поднявшаяся в «центрах мировой революции третьего мира», не распространится и на западные страны? Может ли тот факт, что революционная модель, разработанная Марксом, не осуществилась, быть достаточным основанием для вывода о том, что и Марксова модель социализма не получила практического воплощения в Восточной Европе? Какой может быть модель революции на Западе в наши дни? Совершенно ясно, что невозможно ответить на эти вопросы без некоторой ревизии отдельных теоретических положений. Это как раз и объясняет, почему сейчас почти нет марксистов или марксистских групп, которых не обвиняли бы в «ревизионизме».