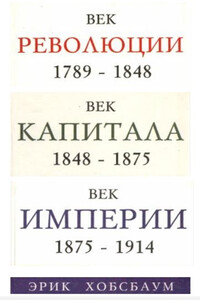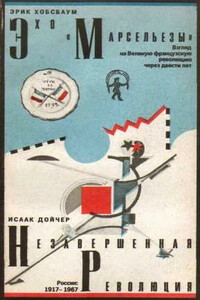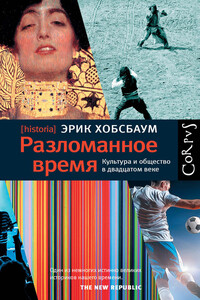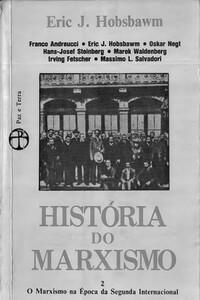Марксизм сегодня. Выпуск первый | страница 31
Тем не менее следствия радикализации интеллигенции носили не только теоретический характер хотя бы уже потому, что интеллигенты уже не могли считаться или считать себя сами людьми, которые, чтобы связать свою жизнь с рабочими, перешагивают через классовые границы, а также потому, что, как мы уже видели, разрыв между интеллигенцией как социальным слоем и рабочими все более увеличивался. В крайних случаях, как, например, в Соединенных Штатах, одни из них пополнили ряды активистов пацифистского движения во время войны во Вьетнаме, другие – ряды демонстрантов, выступавших в поддержку этой войны. Но даже в тех случаях, когда все они занимали левые позиции, центры их политических интересов не совпадали. Таким образом, оказалось гораздо более легким делом возбудить страстный интерес к проблемам окружающей среды и экологии в кругах левой интеллигенции, чем в организациях чисто пролетарских.
Комбинация обеих групп доказала свою чрезвычайную эффективность, как об этом свидетельствуют польские события 1980 – 1981 годов. Разногласия или отсутствие между ними координации – будь то постоянное или временное, – по всей вероятности, нанесли ущерб практической перспективе преобразования общества путем деятельности марксистских движений. В то же время этот опыт показал, что политические движения, опирающиеся преимущественно на интеллигенцию, не способны создавать массовые партии, сравнимые с традиционными социалистическими или коммунистическими рабочими партиями, которые сплочены воедино пролетарским сознанием и верностью классовому делу, да и вообще с какими бы то ни было массовыми партиями. Это расхождение, по всей вероятности, нанесло также ущерб политическому потенциалу и перспективам созданных интеллигентами групп и, следовательно, тем марксистским доктринам, которые они разрабатывали.
С другой стороны, растущее влияние интеллигенции в вопросах марксизма, особенно влияние молодежи, или работников высшей школы, или же тех и других вместе, значительно облегчило осуществление чрезвычайно быстрой связи между различными центрами также и за пределами национальных границ. Этот слой чрезвычайно подвижен и удивительно приспособлен к быстрому налаживанию связей; кроме того, связь между интеллигентами и их отношения друг с другом необычайно устойчивы к распаду, если только, конечно, мы не имеем дело с систематическими и безжалостными репрессиями со стороны государства. Скорость, с какой студенческие движения распространяются от одного университета к другому, является тому доказательством. На новом этапе, таким образом, стало более легким достижение – как на практике, так и в теории – довольно-таки эффективного неформального интернационализма именно в момент, когда организованный интернационализм марксистских движений, впервые после 1889 года, практически прекратил свое существование. В результате появилась неформальная, спорящая, космополитическая марксистская культура. Конечно, национальные и региональные факторы по-прежнему сохраняются, равно как существует целый ряд марксистских авторов, почти неизвестных за пределами своей родной страны. С другой стороны, можно назвать немного стран, где бы определенные имена не были известны всем тем, кто интересуется подобными вопросами; при этом неважно, писали ли они свои работы первоначально на английском, французском или каком-либо другом языке мира: все их сочинения немедленно переводятся. Тем не менее наибольшие препятствия на пути объединения этого международного сообщества, говорящего на марксистском языке, являются лингвистическими (например, в том, что касается оригинальных работ, написанных по-японски) или экономическими (как, например, в случае с нищенствующими индийскими интеллигентами: им не по карману покупка книг, на которые нет скидки за счет государственной дотации, и они не могут из-за отсутствия иностранной валюты приобрести достаточно зарубежных публикаций). И все же в сравнении с любым другим предшествующим периодом в истории марксизма это сообщество географически значительно расширилось, а число «теоретиков» или других марксистских авторов, ведущих в его лоне свои дискуссии, с уверенностью можно сказать, стало и более широким, и более неоднородным, чем когда бы то ни было.