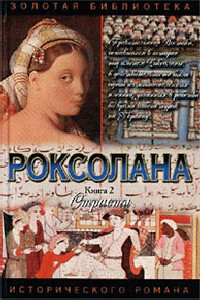Европа-45. Европа-Запад | страница 15
— Ах, где оно, то войско...— вздохнул Казик.
Однако хозяин вернулся один. Он принес солидный кусок бекона, большой каравай хлеба, вилки и ножи. Порезал бекон на ту же сковороду, проворно поджарил его на огне, отхватил несколько ломтей хлеба и хриплым голосом спросил:
— Шнапс? Ром? Ликер?
У пана Дулькевича заблестели глаза.
— Ром,— забыв о своих страхах, поспешно проговорил он.— Ром и ликер! Можно и шнапс. Пся кошчь, люблю разноцветные напитки!
Казик что было силы толкнул пана Дулькевича под столом. Если его «немецкая» речь кое-как могла еще сойти здесь, то «пся кошчь» выдало с головой. Теперь только дурак не сообразит, что перед ним поляки.
Хозяин снова вышел и через минуту вернулся с тремя гранеными бутылками. Достал три металлические охотничьи чарки. Налил всем водки, поднял чарку, бросил: «Прозит!» — и опрокинул в рот, не ожидая гостей. Пан Дулькевич отхлебнул из чарки и закашлялся. Когда-то он слыл способным бибусом (от латинского слова «бибере» — пить). А теперь после одного-единственного глотка ему пришлось хватать вилку и, подцепив добрый кус ветчины, гасить огонь. А немец налил из другой бутылки, буркнул: «Ром» — и снова глотнул, как собака муху. За ромом последовал ликер. Закусывать хозяин не спешил, только искоса посматривал, как по-волчьему работает челюстями пан Дулькевич.
Когда на сковородке не оставалось уже ничего, а в бутылках еле плескалось, хозяин пошевелил в камине тлеющие поленья и вдруг спросил Казика:
— Bist du ein Deutscher?[1]
— Ja,[2]— ответил Казик.
— Это хорошо,— словно бы мурлыкнул немец, и видно было, что он не верит гостю. О пане Дулькевиче он не спрашивал. Поднялся, шатаясь прошелся по комнате и неожиданно запел грубым пьяным голосом:
Немецкий лес, немецкий лес,
Такого нет нигде на свете...
Растроганный пан Дулькевич вскочил, подбежал к немцу, обнял его и, заглядывая ему в глаза, затянул свое:
В маленькой, тихой кофейне...
А немец совсем раскис. Его бычьи глаза наполнились слезами, толстые губы дрожали, когда он выводил:
Там, где стоит возле леса избушка,
Там, куда тянется сердце мое,
Где из дубравы пугливые серны
Утром выходят,— там мой очаг.
Вдруг он умолк. Он посмотрел по очереди на Казика и Дулькевича, вышел из комнаты и, появившись через пять минут на пороге, не то чтобы пригласил, а скорее приказал:
— Спать!
Гости поднялись и, пошатываясь, двинулись следом за ним. Немец повел их по скрипучей лестнице наверх в мансарду. Там оказалась комнатка с широким окном и тремя солдатскими кроватями. Постели были покрыты коричневыми шерстяными одеялами.