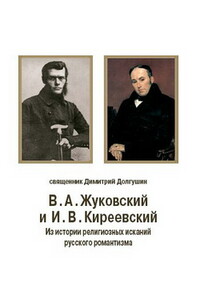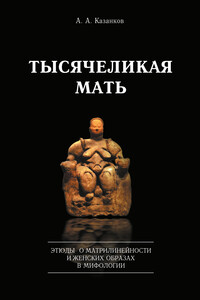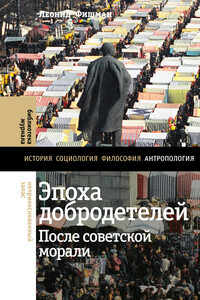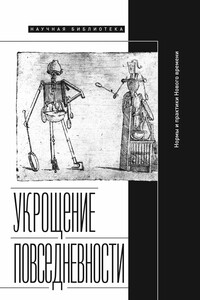Почему нельзя научить искусству. Пособие для студентов художественных вузов | страница 45
Есть и другие признаки того, что мы живем среди незримых руин пяти изящных искусств. Программа вузов все еще устроена так, что музыка отделена от живописи и поэзии. Несмотря на то что деятели визуального искусства работают со звуком (в видеоматериалах, фильмах и звуковых инсталляциях), отделения музыкальные и изобразительного искусства в вузах все еще разделены. Архитектуре тоже часто отводится отдельный факультет, отделение или даже вуз. Пять изящных искусств по-прежнему довольно четко разграничены: живопись и скульптура обычно идут бок о бок, но для музыки, архитектуры и поэзии есть специальные музыкальные, архитектурные и филологические отделения.
Конечно, в художественной среде всё вперемешку, говорят даже, мультимедиа-арт – главное направление в постмодернизме. Но постмодернистская увлеченность мультимедиа-искусством – исключение, лишь подтверждающее правило. Студенты художественных вузов переходят с одного отделения на другое, но сначала им нужно отчислиться с прежнего, чтобы перейти на новое, – систематизация никуда не делась. Только несколько отделений, например временного искусства, медиаисследований или искусства и технологий, как междисциплинарные стоят особняком от основной массы. Университеты пытаются решить эту проблему, давая возможность защищать дипломы и диссертации в междисциплинарной области, но в таком случае студенту приходится самому налаживать связи.
Отсюда следует, что современная концепция искусства противоречива, поскольку мы верим одновременно и в системы, и в подвижные или неупорядоченные списки равноправных искусств. Но если не озадачиваться классификацией, мы получаем два крайних плюралистских подхода, о которых говорилось выше, вот почему я считаю систематизацию искусств важной темой. Либо мы считаем, что делать различия между отделениями – идея устаревшая и вместо нее нужны более радикальные междисциплинарные представления о творчестве и его восприятии, либо мы говорим, что каждое отделение имеет свой собственный «язык», свой особый способ обращения с конкретным медиумом.
В первом случае проблема в том, что таким образом мы отказываемся признавать исторически укоренившиеся различия ради теории, которая не имеет исторической зацепки – теории, которая будет утрачивать актуальность по мере того, как традиционные техники будут и дальше развиваться каждая в своем отдельном направлении.
Проблема со вторым подходом – когда говорится, что у каждого медиума свой язык, – в том, что это, возможно, не более чем иллюзия. Соблазнительно думать, что любая художественная техника имеет свой собственный язык, но я подозреваю, что существует лишь несколько основных взглядов на технику. В XIX веке фотографии было трудно воспроизводить в больших количествах, поэтому издатели, которым требовались иллюстрации, заказывали с фотографии гравюры – часто торцовые гравюры на дереве (линии таких гравюр было проще воспроизвести на печати, чем «зерно» фотографий). Поэтому ранние практики торцовой гравюры уделяли сравнительно мало внимания собственным выразительным средствам: они больше думали о репродуцируемом материале и пытались сделать гравюры максимально похожими на него, в том числе фотографии. В XX столетии торцовая ксилография «обрела свои права» и теперь имеет собственный неповторимый «облик», легко узнаваемые особенности (глубокий черный цвет, использование самшита и специальных гравировальных инструментов).