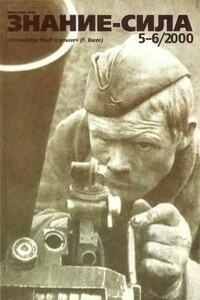Знание-сила, 1998 № 06 (852) | страница 37
Что она, Природа, — большая дура, ничего не видит и не понимает (не имея ни глаз, ни мозгов), об этом в ученом мире все знают, но не говорят — из вежливости. Оттого один мудрей деловито прогнозирует стихийное развитие тех средств, при помощи которых ученое сословие решает свои очередные задачи, не размышляя о том, какие задачи стоят в очереди за только что решенными. Другой специалист столь же деловито предрекает самые насущные проблемы грядущих лет и десятилетий, не задумываясь о возможных средствах их решения и о той цене, которую придется заплатить за такое решение. Короче говоря, сами прогнозисты не образуют ценоза и потому регулярно терпят неудачи в прогнозах стихийной эволюции ценоза, состоящего из научных моделей и проблем. Так было, так есть — и, видимо, так будет до скончания научных веков.
Например, в начале XX века возникла Большая Наука (по запросам Большой Технологии); в конце того же века она вновь сморщилась до Малой Науки — вследствие соревнования Больших Держав, которое завершилось Большим Разорением всего человечества и окружающей нас Природы. К сожалению, никто не предвидел ни первого, ни второго из этих событий, а если предвидел, то ему не поверили или не приняли всерьез, а он никого не сумел убедить в своей правоте.
То же самое можно сказать о двух прогнозах, которые нам предлагают один физик и один геометр. Их объединяет вера в неограниченные возможности дешевой теоретической науки, которую не может остановить ни финансовый, ни экологический кризис. Физик толкует, как можно было угадать основы теории относительности и квантовой механики за сто или двести лет до Альберта Эйнштейна, Эммы Нетер и Вернера Гайзенберга. Чего же не хватило? Вот этих самых гениев и не хватило! Были и тогда богатыри: Эйлер, Мопертюи, Лагранж, Кавендиш. Да вот бела — увлекались они не тем, чем следовало бы увлечься ради процветания ньютоновой механики и ее дочерних теорий.
А что говорит геометр? Он объясняет нам, какое великое будущее ждет геометрическую физику в XXI веке, если новые теоретики займутся геометрией фракталов столь же самозабвенно, как Эйнштейн и Минковский занимались геометрией евклидовых пространств в начале нашего века. Но вот вопрос: займутся ли? Если да, то с какой стати? А если нет, то чем иным они увлекутся, и по какой причине? Вот главная проблема современной (да и прежней) науки: стимулы творческой деятельности самых талантливых ученых. В какой мере они доступны моделированию, а на его основе — прогнозированию, или разумному управлению?