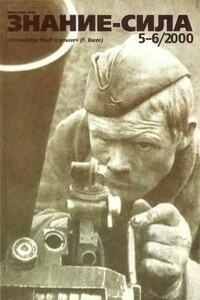Знание-сила, 1998 № 04 (850) | страница 93
Так называемое новое направление в исторической науке, которое как-то непроизвольно возглавили П.В. Волобуев и другой выдающийся историк, К.Н. Тарновский, стало не в меру упорно настаивать на том, что предреволюционная Россия была "многоукладной страной", то есть соединяла в себе и хозяйственную патриархальщину, и ростки современного капитализма. Разумеется, такая мысль полностью соответствовала ленинским высказываниям на этот счет. Но пресловутая многоукладность ставила под сомнение облюбованную номенклатурой и лейб-историографами догму: Россия являлась страной с преобладанием высокоразвитых форм капитализма (особенно в финансовой сфере), что позволило ей перепрыгнуть в не менее совершенный социализм.
Ирония истории состояла в том, что лидеры нового направления вовсе не посягали на "формационную" марксистскую теорию — общий постулат, который оправдывал все, что происходило и могло произойти в стране "победившего социализма”. Коммунистические охранители оказались куда более проницательны в отношении всего, что могло хотя бы косвенно затронуть устои системы, на которой они паразитировали. Новое направление было разгромлено, причем особенно неистовствовали при этом вовсе не люди со Старой площади, а сами историки, в том числе и из института, возглавляемого Павлом Васильевичем, включая и тех, которые продолжают здравствовать по сей день. Те историки, которые вздумали "совершенствовать” марксистскую теорию, оказались в роли презренных ревизионистов. Последовали оргвыводы и опала.
Сталинские времена прошли, за жизнь можно было не беспокоиться, разумеется, если человеку не "лепили статью". Брежневская система даже готова была проявить известное снисхождение. Цена была известна — публичное покаяние, проще говоря, предательство не только дела, но и своих "сообщников". Соответствующие предложения были сделаны. Но... не нашли понимания. Директор института отправился в "ссылку” рядовым сотрудником в Институт истории естествознания и техники, что расположен был неподалеку от того самого ведомства, откуда последовал приказ. В те времена этот институт превратили в своеобразный накопитель "вероотступников". Так система карала тех, кто хотел ее улучшить. В этом сказывалась ее обреченность.
"Феномен Волобуева” связан, однако, с другим. В годы перестройки он был избран действительным членом АН СССР и возглавил Научный совет "История революций в России". Сжигать партбилет он не только не стал, но, напротив, остался до конца верен "идеалам социализма". Академик при этом считал, что возглавляемый им научный совет по истории революций будет полностью деидеологизирован и деполитизирован. Линию эту он выдерживал до конца. Но скоро его лицо замелькало на телеэкране на различного рода мероприятиях (отнюдь не митингах!), устраиваемых Г. Зюгановым. Правда, Павел Васильевич каждый раз, словно оправдываясь перед сотрудниками совета, пытался объяснить, что журналисты выхватывают из контекста его речей вовсе не то, что он хотел подчеркнуть в первую очередь. Говорил он и о том, что резко ставил перед лидерами КПРФ вопрос о недопустимости антисемитизма в их рядах. Академик вместе с тем выступил и одним из инициаторов создания ассоциации "историков социалистической ориентации". В любом случае человек, пострадавший от системы, оказался в рядах ее защитников.