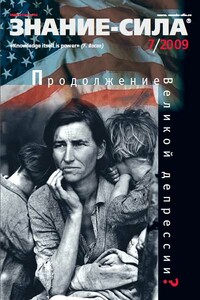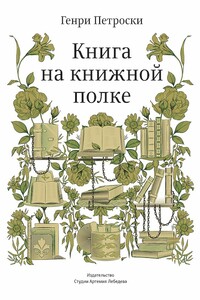Знание-сила, 1998 № 04 (850) | страница 2
Ну что ж, пусть эта квартира не станет объектом паломничества и культовым местом, как «нехорошая квартира» на Садовой-Триумфальной (и правильно: что-то уж слишком много стало в стране «культовых мест»), но нас в конце концов интересует не она и даже не подоплека булгаковской прозы. Нас привлекло в этом сюжете сцепление судеб — реальных и литературных, схождение разных пластов жизни — сегодняшнего и того, о котором рассказывает 3. Степаниидева.
Пространство российского XX века представляется мне крайне разреженным: слишком мало людей — участников знаменитых или как бы рядовых событий, мало живых свидетельств, мало запечатленных тем или иным путем конкретных судеб. Миллионы наших соотечественников ушли в землю, не оставив по себе никаких следов. Помню, Натан Эйдельман ужасался этим. Ужасался и сравнивал. От XIX века, когда грамотой владела невеликая доля населения, до нас дошли тонны, нет, десятки, сотни тонн частных документов. (Жизнь Пушкина прослежена исследователями по бумагам с точностью едва ли не до одного дня. А это — более полутора веков назад!) От нашего же, российского XX века, вздыхал Эйдельман, — одни лишь крохи. Жгли, выбрасывали на помойку, спускали в канализацию... Суровый век, кровавое безжалостное время.
И вот — совсем недавнее свидетельство. Моя знакомая, биолог, да, кстати, и автор журнала, рассказывала о том, что много лет собирает документы о своем роде и пишет его историю. А род, между прочим, примечательный: в нем и крупный сибирский промышленник, обустроивший первую в Сибири типографию, и Дмитрий Менделеев, и другие привлекающие внимание люди. Первые части истории, пожаловалась собеседница, написались легко и свободно, а потом дело стало стопориться: «От XVIII, даже от XVII века документы сохранились, и немало, а в XX веке — одни пробелы».
Очень хотелось бы населить реальными живыми людьми пространство российского XX века. В этом году редакция «Знание —сила» при поддержке института «Открытое общество» предприняла долговременную акцию: публикацию материалов из Народного архива. С первыми материалами архива читатель мог познакомиться в предыдущих номерах журнала. В этом номере — воспоминания 3. Степанищевой о своих родителях (в обработке Валерии Шубиной).
Эти воспоминания - обжигающий душу рассказ о судьбах людей в эпоху революции, гражданской войны, социальных переворотов. Эпизод с квартирой профессора Преображенского экзотичен, он любопытен для читателей и почитателей Булгакова, но для автора воспоминаний это лишь мимолетный штрих скитаний их семьи по разоренной и переворошенной Москве. В се воспоминаниях есть куда более сильные сюжеты, без преувеличения достойные пера Платонова или Маркеса. Например, рассказ о том, как одно село решило «выйти» из ужаса гражданской войны и перекочевало в безлюдную степь. Есть там и свидетельства о таких кульбитах жизни, которые по своей фантастичности превосходят даже изощренные наблюдения Зощенко. Это, например, история о «красных партизанах».