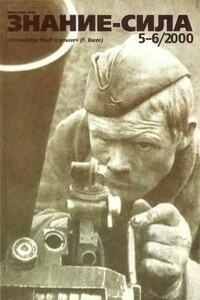Знание-сила, 1997 № 10 (844) | страница 14
В самом этом исторически вынужденном сочетании изначально заложено глубокое неискоренимое противоречие. Чисто «технологическая» модернизация невозможна. Развитие промышленности, рост городов, повышение уровня образования неизбежно порождают общественные слои, ориентированные на либеральные ценности гражданского общества, правового государства, короче, на социальную модернизацию. Они враждебны тоталитаризму, опасны для него, и тоталитарное государство делало все, чтобы воспрепятствовать их консолидации.
По та же самая модернизация, как мы говорили, углубляет кризис этничности, порождая синдром антимодернизма, с потенциалом недовольства, протеста, ксенофобии. Этот потенциал умело использовался в политической игре, в борьбе с любыми попытками критики режима, либерального свободомыслия. Постоянно осуждаемый на словах этнический национализм — антипод гражданского общества — заставил с собой считаться, стал нужным, любимым детищем властей. Того же нельзя сказать о федерализме, который смело можно назвать их пасынком.
Все школьники в СССР были знакомы с «Манифестом Коммунистической партии», где говорится, что экономическая деятельность буржуазии сделала необходимой политическую централизацию, вследствие чего «независимые, связанные почти только союзными отношениями области... оказались сплоченными в одну нацию, с одним правительством, с одним законодательством, с одним национальным классовым интересом, с одной таможенной границей». Экономическую деятельность буржуазии в СССР заменила деятельность Госплана. Вся экономика, а по существу, вся страна рассматривалась как один большой завод, внутри которого, конечно, очень важна горизонтальная технологическая кооперация. Соответственно и создавалось единое на всю страну технологическое пространство. Его пронизывали дороги и трубопроводы, внутри него перемещались люди и грузы, шел обмен деятельностью.
Это технологическое пространство принято было считать экономическим. На самом же деле оно было псевдоэкономическим; оно не было пространством внутреннего рынка, на котором определяются и сталкиваются экономические интересы конкретных людей или групп людей-собственников, непосредственно зависящих от всего, что происходит в этом пространстве, и способных активно воздействовать на его состояние. Соответственно не было и массового слоя носителей федералистской идеи, стремящихся к меньшей зависимости от центра во имя большей свободы действий на внутреннем рынке, но не желающих терять этот рынок или дробить его.