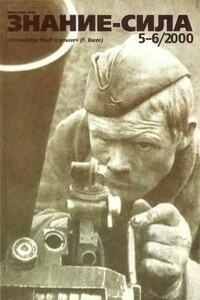Знание-сила, 1997 № 10 (844) | страница 12
Симбиоз модернизма и архаики, служивший питательной средой роста местных элит, был во многом искусственным, поддерживался сильным имперским центром. С исчезновением этой поддержки хрупкое равновесие могло нарушиться в пользу антимодернистской реакции, что чревато вытеснением, даже уничтожением новых региональных элит и приостановкой модернизации в целом.
Даже сохраняя власть в своих республиках и контроль над их экономикой, региональные элиты оказывались отрезанными от огромного пирога империи, на который они привыкли смотреть как на свой: вспомним хотя бы попытку среднеазиатских лидеров повернуть на свои земли сибирские реки. Во всех республиках Закавказья и Средней Азии сложился слой людей, ощущавших себя гражданами огромной евразийской империи и потенциально способных претендовать на любое место в ней. Им было что терять, окажись они в замкнутом пространстве небольших и бедных азиатских государств.
Не удивительно, что среднеазиатские политические элиты хотели не столько выхода из империи, сколько перераспределения в своих интересах влияния и власти внутри нее. Сепаратистские настроения в Средней Азии не были сильны, «фундаменталисты» едва ли были способны самостоятельно подвести свои республики к выходу из Союза, во всяком случае тогда, когда это произошло на самом деле. Их выход из состава СССР в 1991 году был едва ли не вынужденным, но, повторим, почти не вызвал сопротивления.
Впрочем, почти не сопротивлялась распаду страны и союзная элита, которую с немалыми, правда, оговорками можно отождествить с элитой российской.
Провозглашенная Петром I империя естественно вписалась в восточноевропейское геополитическое пространство. Правда, с точки зрения европейского Запада она была уже несколько анахроничной: там складывались независимые национальные государства. Их народы, может быть, впервые в истории смогли существовать и соседствовать, не входя в обширные, иерархически организованные полиэтнические метаструктуры — империи. Решающую роль в этих переменах играл новый тип общественных, в том числе и межгосударственных связей, созданный рыночной городской экономикой.
Но на востоке Европы империя еще не была анахронизмом. Политические принципы, унаследованные от Восточной Римской империи, пока вполне соответствовали традиционному состоянию восточноевропейских обществ, по- прежнему почти исключительно аграрных и сельских.
В России такое соответствие сохранялось примерно полтора столетия после Петра I. Конечно, это не означало ни легкости расширения границ, ни особой гармонии внутри империи. Ее созидание было долгим, трудным, далеко не бескровным делом и обходилось России очень дорого. Колонизация тяжелым бременем лежала на национальной экономике, постоянно перемалывала материальные и людские ресурсы, поглощала психическую энергию нации. Но долгое время она несла имперское бремя, казалось бы, едва ли не с радостью, замечая только выгоды своего державного положения.