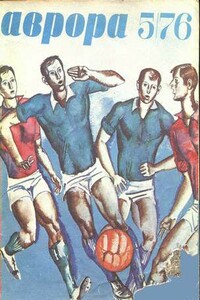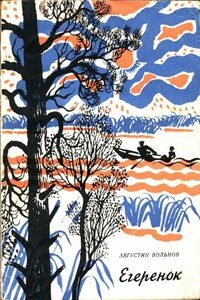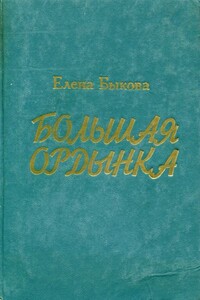Записки ровесника | страница 73
Не исключено, что именно при встрече с Карамзиным я и понял, что такое радость открытия. Никакой пересказ, описание, никакая чужая статья, пусть самая талантливая, не способны заменить эффекта личной встречи и если не открытия, то хотя бы соучастия в открытии. Только когда ты сам, своими глазами, обнаружишь на обыкновенной, пыльной странице, пронумерованной, как и всякая другая, и ничем, никак не выделенной, нечто такое, что даст тебе возможность увидеть на мгновение обнаженными корни жизни твоих предков, — только тогда ты оказываешься способен ощутить достаточно пронзительно свое право считать эти корни своими.
И вот, приплюсовав крошечный факт, увиденный тобой в необычном ракурсе, это т в о е теперь уже открытие, к такому же открытию — или микрооткрытию, пожалуйста, — сделанному на прошлой неделе, или, тем более, к целой цепочке подобных открытий, ты неожиданно чувствуешь себя вправе провозгласить что-то вроде теории, или хотя бы наметить костяк теории, ее становой хребет, или, в крайнем случае, обозначить всего лишь заявку на теорию… Вот оно, удовлетворение, — ведь это твоя заявка, не чья-нибудь, и в основательности ее ты уверен.
У меня не было ничего похожего на заявку такого рода, когда, неожиданно для друзей и для родственников, я подал документы на исторический факультет университета и, благодаря «золотому» аттестату, был туда принят. То есть все знали, конечно, что я люблю читать мемуары и историческую эссеистику; мне казалось, что с помощью подобных книг так просто выяснить, «как же оно было на самом деле», и я охотно делился своими «познаниями» с другими. Но от любви к мемуарам до поступления на истфак расстояние невероятное.
Существовали и частные побудительные причины, тоже совершенно недостаточные для принятия такого серьезного решения. На истфак поступала — по призванию, она была совершенно в этом уверена, — девушка из параллельного класса, которая мне нравилась; она благополучно завершила учебу, преподает историю в школе, я целую вечность ее не видел, по поводу каждой моей новой печатной работы, попавшейся ей на глаза, она пишет мне восторженные записки. На истфаке уже училась, на втором курсе, дочь маминых друзей, и я дома слышал немало подробностей из жизни факультета — это было, таким образом, единственное высшее учебное заведение, о котором я хоть что-то знал. Еще истфак славился своей профессурой. Вот и все, пожалуй.
…Впрочем, если быть скрупулезно точным, можно привести еще не одно обстоятельство, способствовавшее, как я потом понял, моему выбору, хотя тогда я их совсем в расчет не принимал. Все последние годы перед войной мы проводили лето в Детском Селе, как раз тогда переименованном в город Пушкин. В величавых и вместе с тем очень доступных парках все сближало с прошлым, пробуждало интерес к нему, настраивало на то, чтобы перенестись на сотню-полторы лет назад — мне до сих пор, когда я бреду по Екатерининскому парку, кажется, что вот-вот из-за куртины мелькнет голубой кринолин и дама в парике окинет меня насмешливым взором. В немалой мере таким настроениям способствовал и широко отмечавшийся пушкинский юбилей. Книги о юных годах Пушкина, о Лицее, тыняновский «Кюхля» прежде всего, буквально ожививший историю, были тогда бестселлерами. К столетию снимался фильм «Юность поэта» — его персонажи в лицейских мундирах сидели в парках на тех же скамейках, что и мы. Но самым, пожалуй, сильным было для меня ощущение того, что я был д о м а там, где всегда был дома Пушкин, — вот что активно связывало меня с прошлым, куда более активно, чем великолепно сохранившийся Екатерининский дворец, или лицей и лицейская церковь, или Александровский дворец с личными апартаментами последней царской семьи — всего двадцать лет прошло. Пушкин бывал тут «у себя» — и я тоже, столетие пронеслось как один миг, вобравший так бесконечно много. Казалось, заманчиво — и не так уж и сложно — знать в с е об этом столетии.