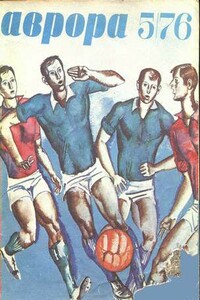Записки ровесника | страница 46
Этого оказалось достаточно. Все обиды, унижения, причиной которых был не только Женька, все муки, связанные с унылой бесперспективностью моего внеучебного существования в нашей школе, называвшейся, словно в издевку, образцовой, в один миг воскресли и заявили о себе. Я припомнил разговор с няней, ее завет действовать самому. Я встретил взгляд серых, спокойных глаз Леши Иванова, стоявшего совсем близко и с интересом наблюдавшего за нами, — мне почудилось, что Лешка пытается по-своему меня подбодрить. Где-то дальше, в толпе, мелькнула тревожно вытянутая шея и две косички…
От всего этого, вместе взятого, но главное все же, кажется, от брезгливости, я ощутил такой прилив ненависти, смешанной с готовностью совершить нечто залихватское — на миру и смерть красна! — что схватил лежавшую на чьей-то парте линейку и изо всех сил двинул Женьку по морде узким, измазанным чернилами деревянным ребром.
Удар линейкой был бы, пожалуй, осужден ребятами, если бы мы дрались на равных. Но поскольку мышь осмелилась поднять лапу на кошку, класс сочувственно загудел и придвинулся поближе, чтобы не упустить подробностей.
Такое случалось не каждый день; я почувствовал себя на мустанге, героем Майн-Рида.
Женька сразу же дрогнул — или мне померещилось? Я был еще слишком мал и не знал, что наглецы и выжиги часто оказываются трусами. Вновь замахнувшись линейкой, непроизвольно, по инерции, я точно убедился, что в глазах Женьки — страх, тот самый, что глодал и меня самого, ошибиться было невозможно. Он отступил немного, закрылся рукой, и тогда я ударил вторично, стараясь дотянуться линейкой до его макушки — он был почти на голову выше меня.
Я попал ему в висок. Он закрыл лицо обеими руками, а я, отбросив бесполезную, как мне показалось, линейку, стал изо всех сил молотить его крепко сжатыми кулаками.
Женька согнулся. Я схватил его за шею и свалил на пол.
Легкость, с которой мне удалось это сделать, была неожиданна, — я снова испугался. Вот обозлится, думаю, вскочит, и… Но он остался лежать. Тогда меня понесло. Остановиться я уже не мог. Напрочь позабыв провозглашавшуюся в любимых книгах заповедь «лежачего не бьют», испытывая неслыханное наслаждение, я бил и бил это рыхлое тело, этот бурдюк с костями, это вместилище существа, так долго и так изощренно мучившего меня. Теперь оно покорно сносило мои удары.
Я обнаглел настолько, что, сам того не желая, предложил Женьке подняться. Он этого не сделал, и я продолжал бить его — теперь уже куда придется.