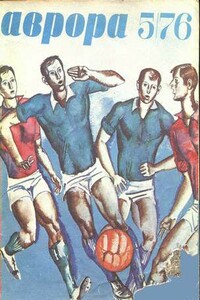Записки ровесника | страница 20
Я думаю, инстинктом человека из трудовой семьи — помните бабусю, нянину мать? — она улавливала: мальчик неизбежно переходит теперь под воздействие неподвластных ей сил, и ее прямая задача — облегчить этот переход.
Я полагаю, она понимала, пусть не очень отчетливо, что искусственно тормозить развитие смертельно опасно, а быть может — даже и то, что тянуть меня назад, в наше упоительное прошлое, означает, рано или поздно, потерять мою привязанность.
Помощь няни была тем более своевременной, что я фактически остался без отца; в известном смысле, она заменила мне его.
Тут я вынужден сделать шаг в бездну и сказать хотя бы коротко о своих отношениях с отцом и о его роли в моей жизни. Какой бы одноплановой и эпизодичной ни была эта роль, я не имею права промолчать, хотя, видит бог, предпочел бы сделать это. А бездна это для меня потому, что отношения наши были сложными, больными, и в одиночестве отца в конце его жизни я виноват по меньшей мере столько же, сколько он сам.
Ни тогда в Москве, ни впоследствии, когда я неоднократно пытался приглядеться и даже притереться к нему, надеясь обрести старшего друга или хотя бы мудрого союзника, отец не был способен представить себя, взрослого, занимавшего ответственные посты человека, ровней своему сыну. Присесть к мальчугану на коврик с игрушками и строить вместе домик из кубиков? Какое унижение! Сын пошел воевать? Ничего особенного, все воюют — у отца была броня. Сын написал свое первое историческое исследование? Чепуха какая-нибудь… Экономист по образованию и по профессии, он был уверен — слышите: уверен! — что знает историю лучше меня. Отцовская усмешка всегда казалась мне недоброй, а ведь на самом деле она не могла быть такой, не так ли?
Меня многое настораживало в отце. Недружность семьи, из которой он был родом — мама и после развода была в гораздо более теплых, более родственных отношениях со старшим братом отца, чем он сам. Когда же в двери отцовской квартиры неожиданно звонил кто-нибудь из его многочисленных племянников, отец неизменно делался негостеприимным, раздражительным, мелочным.
Боюсь, нечто подобное, как заноза, засело и во мне — не зря, кажется, мать в гневные минуты попрекала меня «отцовским характером». Самые острые углы сгладило фронтовое житье-бытье, но я и сейчас бываю иногда беспричинно яростен и несправедлив к людям, мало мне симпатичным или чуждым по миросозерцанию, просто далеким или счастливо пребывающим в мире нераспознанной подлости — а какое, собственно говоря, имею я на это право? Должен признаться, я больше нравлюсь себе в периоды, когда меня самого, бывает, стукнет судьба — тогда я сразу перестаю ощущать себя безукоризненным, во всем правым, смягчаюсь, становлюсь терпимее.